Эта книга — первая на русском языке биография Элиаса Лённрота (1802— 1884), внесшего своими классическими книгами, прежде всего «Калевалой», большой вклад в историю финской, карельской и мировой культуры. Лённрот открыл образованному миру сокровища карело-финской народной поэзии. Книга написана доступно, занимательно, и в то же время у нее строго научная основа, в ней использованы интересные архивные материалы и вся обширная исследовательская литература о Лённроте и его эпохе.
«Элиас Лённрот. Жизнь и творчество»: Карелия; Петрозаводск; 1996
«ГЕРОЙ ДЛЯ ТАЦИТОВА ПЕРА»
Название начальной главы книги об Элиасе Лённроте — «Герой для Тацитова пера» — восходит к словам, сказанным о нем еще полтора столетия тому назад Петром Александровичем Плетневым, русским поэтом и критиком, другом Пушкина и редактором-преемником основанного им журнала «Современник».
Вынесенные в заглавие слова Плетнева взяты из его письма 1848 г. и свидетельствуют по-своему о том, что уже тогда, в середине прошлого столетия, наиболее проницательным людям из числа тех, кому довелось так или иначе соприкасаться с Лённротом и составить о нем мнение, была очевидна неординарность его личности, равно как и значение и масштаб сделанного им. А ведь тогда Лённроту не исполнилось и пятидесяти лет, не успело выйти из печати расширенное издание «Калевалы» 1849 г., ему многое еще предстояло совершить.
Имя Элиаса Лённрота (1802-1884), крупнейшего первооткрывателя карело-финской народной поэзии, представившего ее в своих классических книгах образованному миру, прочно вошло в историю финской, карельской и мировой культуры.
Уже вскоре после первого издания «Калевалы» в 1835 г. о ней заговорили не только в Финляндии, но и в европейских странах. Появились первые переводы «Калевалы», о ней стали писать. В частности, выдающийся немецкий ученый Якоб Гримм, издатель знаменитых сборников народных сказок, признанный авторитет в области фольклора и мифологии, выступил в 1845 г. с большим докладом о «Калевале» в Берлинской академии наук. Доклад был тогда же опубликован на немецком и других языках (в русском переводе он появился в 1846 г. в «Журнале министерства народного просвещения»), что содействовало распространению сведений о «Калевале» среди международной научно-литературной общественности.
В России, в состав которой с 1809 г. входила Финляндия, одним из первых с «Калевалой» и Лённротом познакомился Яков Карлович Грот (1812-1893), а через него и П. А. Плетнев (1792 — 1865), его друг и наставник.
К именам Грота и Плетнева мы еще не раз будем обращаться, в особенности к их обширной переписке, касающейся в значительной своей части Лённрота, «Калевалы» и Финляндии. Переписка Грота и Плетнева была в 1896 г. издана в трех томах на русском языке, а затем она вышла в 1912-1915 гг. в двух томах, с некоторыми сокращениями, на шведском языке в Финляндии. Для финских биографов Лённрота и историков финской культуры, равно как и для нас в данном очерке, переписка Грота и Плетнева представляет первостепенный интерес, она содержит ценнейшие сведения, что называется, из первых рук от непосредственных очевидцев. В течение длительного времени Грот был близко знаком с Лённротом, много общался с ним, вместе путешествовал, гостил в его доме, наблюдал его характер, привычки, запечатлел его внешний облик — и все это засвидетельствовал в своих письмах, статьях, книге-путешествии. Сохранилась и переписка самого Лённрота с Гротом, в человеческом и культурно-историческом отношении не менее ценная и примечательная.
Дело в том, что Я. К. Грот, ставший со временем выдающимся ученым-филологом, действительным членом и вице-президентом Российской Академии наук, ранний и весьма продолжительный период своей научно-преподавательской деятельности провел в Финляндии. В течение двенадцати лет (1841 —1853) он являлся профессором русского языка, литературы и истории Хельсинкского университета. Еще до этого у молодого Грота определился устойчивый литературно-филологический интерес к скандинавской и финской культуре, чему способствовало стечение обстоятельств.
Предки Я. К. Грота были немецкого происхождения, его дед по отцу приехал в Петербург в 1760 г. из Голштинии (Северная Германия) вместе с бароном Н. Корфом и служил лютеранским пастором в Екатерининской церкви, с чего начались контакты Гротов с царским двором. Карл Грот, отец Я. К. Грота, в возрасте 14 лет был приглашен в сотоварищи к юным великим князьям Александру и Константину, чтобы общаться с ними по-немецки; впоследствии он служил чиновником под покровительством барона Корфа. Когда мать Я. К. Грота овдовела, она подала прошение императору Александру I об устройстве двух ее малолетних сыновей в привилегированный Царскосельский лицей, куда полагалось принимать только дворянских отпрысков. Прошение было удовлетворено, и в период 1823-1832 гг. Я. К. Грот учился в лицее. Основанный в 1811 г. лицей должен был готовить преданных монарху гражданских и военных чинов высокого ранга, хотя еще со времен Пушкина, который был в числе первых лицеистов, в юных умах зрели семена вольнодумства. Грот в своих воспоминаниях был не очень высокого мнения об уровне лицейского образования; многого он добился своим собственным прилежанием, во всех классах был первым учеником и окончил лицей с золотой медалью. Случилось так, что почти четверть века спустя, уже после завершения своей профессорской деятельности в Хельсинки, Грот вновь вернулся в Царскосельский лицей, теперь в качестве преподавателя и одновременно наставника детей наследника престола, будущего императора Александра II.
Еще во время учебы в лицее Грот увлекался в основном языками и литературой, и это увлечение продолжалось в годы его чиновной карьеры, плохо с нею уживаясь. Грот настойчиво изучал языки, владел свободно немецким, французским, итальянским и английским, читал в оригинале «Энеиду» Вергилия. Собственную литературную деятельность он начал с поэтических переводов. В начале 1838 г. в «Современнике» П. А. Плетнева был напечатан его перевод байроновской поэмы «Мазепа», и это было началом его многолетнего сотрудничества с журналом, равно как и тесной дружбы с Плетневым. Грот придавал этой дружбе большое значение в своей духовной жизни, через нее он вошел в литературный мир, познакомился со многими писателями, стал постоянным посетителем литературных вечеров, в частности, у князя В. Ф. Одоевского.
Первому знакомству Грота с финской и скандинавской культурой помог случай. В автобиографии он рассказывает, что где-то в середине 1830-х гг. решил заняться для укрепления здоровья верховой ездой и гимнастикой; руководил занятиями «швед Паули», петербургский житель, по-видимому, человек интеллигентный, одолживший Гроту две книги на шведском языке: поэму «Сага о Фритиофе» Э. Тегнера, тогдашней скандинавской знаменитости, и сборник лирических стихотворений в те годы еще молодого, только входившего в силу финляндского поэта Ю. Л. Рунеберга. О тегнеровской поэме Грот был уже наслышан, о ней с похвалой отозвался Гете; в дополнение к шведскому изданию Грот разыскал ее немецкий перевод, а вскоре и сам решил перевести ее на русский язык. С рукописным переводом трех песен из поэмы ознакомился В. А. Жуковский и в письме к Плетневу посоветовал переводчику продолжать работу. (Перевод тегнеровской поэмы был опубликован Гротом в 1841 г. уже в Хельсинки.)
Свою первую поездку в Финляндию Грот совершил в 1837 г. По его рассказу, она была краткой, и ее «главным плодом было убеждение, что я должен еще раз побывать в Финляндии, чтобы хорошенько усвоить себе шведский язык и приготовиться к переводу начатой поэмы». Летом 1838 г. Грот уже на более продолжительное время поехал в Хельсинки, познакомился с поэтом и критиком Фр. Сигнеусом и вместе с ним навестил Рунеберга в городе Порвоо. Это была его первая встреча с Рунебергом; поэт подарил тогда гостю две книги своих стихов. Летом следующего года Грот предпринял очередную поездку в Финляндию, объездил юг страны и две недели гостил у Рунеберга. Тогда же Грот впервые получил представление о «Калевале» — по прозаическому ее переложению на шведском языке, которое ему преподнес хельсинкский профессор истории Г. Рейн.
В печати появились первые статьи Грота на финляндско-скандинавские темы: «Знакомство с Рунебергом» (1839), «О финнах и их народной поэзии» (1840) в «Современнике», «Поэзия и мифология Скандинавии» (1839) в «Отечественных записках».
У Грота крепло желание надолго поселиться в Финляндии, тем более что чиновничья карьера мало прельщала его. На одной из петербургских встреч ему стало известно, что профессор русского языка Хельсинкского университета С. В. Соловьев намеревается оставить свой пост, и Грот готов был занять его место, в чем его поддерживали Плетнев и Жуковский. Но дело с освобождением вакансии откладывалось, и тогда не без влияния Жуковского Гроту было предоставлено место в финляндском статс-секретариате с правом жительства либо в Петербурге, либо в Хельсинки, и Грот выбрал последнее. Формально он числился чиновником по особым поручениям, но в перспективе имелось в виду, что для него будет учреждена должность инспектора по преподаванию русского языка в финляндских училищах; одновременно Плетнев ходатайствовал об открытии в Хельсинкском университете новой вакансии профессора русской истории, литературы и языка, которая предназначалась для Грота. Весной 1840 г. Грот вместе с матерью переселился в Хельсинки и вскоре встретился с Лённротом, а в следующем году он был утвержден в звании профессора.
Следует упомянуть еще о том, что в июле 1840 г. в Хельсинки состоялись празднества по поводу двухсотлетия университета, на которые были приглашены представители всех российских и ряда иностранных университетов. В подготовке и проведении празднеств самое деятельное участие принимал Грот, а в качестве почетного гостя от Петербургского университета на них присутствовал также Плетнев, тогда же познакомившийся с Лённротом. После тех двух недель, проведенных в Хельсинки, Плетневу больше не довелось лично общаться с Лённротом, но состоявшиеся встречи запомнились им обоим. Продолжение знакомства Плетнева с Лённротом и Финляндией происходило уже через письма и статьи Грота.
Оказавшись в Финляндии, Грот проявил себя человеком высокой филологической культуры, постарался овладеть, кроме шведского, также финским языком — в этом случае ему помогали финские знакомые, среди которых он с признательностью упоминает, кроме Э. Лённрота, также М. А. Кастрена, К. А. Готлунда, Д. Э. Д. Европеуса. И эти же люди, по свидетельству Грота, владели русским языком.
Свою первую встречу с Лённротом Грот описал в письме к Плетневу от 19 июня 1840 г. следующим образом. Встреча состоялась в Хельсинки, на квартире у Лённрота, сопровождающим у Грота был поэт Фр. Сигнеус. Лённрот, читаем в письме, «живет в хорошей части города, но в бедном, красном домишке на дворе. Ласково встреченный им, я увидел в нем человека средних лете огненными глазами, с добродушной улыбкой, с лицом, почти багровым от загара, с приемами неловкими и вовсе не светскими; он одет был грубо, в длинном сюртуке из темно-синего, толстого сукна, но его обращение и речь так безыскусственны и просты, что я тотчас полюбил его от сердца. Он сам, кажется, и не подозревает в себе никакого достоинства и всякого считает выше себя». Грот упоминает, что в жилище Лённрота было много разных образцов народного музыкального инструмента кантеле, много рукописей и что Лённрот подарил ему экземпляр недавно вышедшей в свет первой книги «Кантелетар» с дарственной надписью.
Довольно скоро между Лённротом и Гротом установились доверительные и дружеские отношения. Они переписывались, поскольку их встречи не могли быть частыми. Начиная с 1833 г. Лённрот в течение двадцати лет — вплоть до отъезда Грота из Хельсинки — жил в основном на севере Финляндии, в небольшом городке Каяни, где занимал должность окружного врача. Много времени Лённрот проводил в частых служебных поездках по обширной территории округа Кайнуу, и из Каяни же начинались многие его экспедиции за рунами в российскую Беломорскую Карелию. В Хельсинки Лённрот был только наездами, обычно во время длительных служебных отпусков, которые ему предоставлялись для фольклорно-собирательской и научно-филологической работы.
Сохранилось двадцать писем Лённрота к Гроту и девятнадцать писем Грота к Лённроту. Их переписка относится в основном к 1840-м гг. Чаще всего они переписывались на шведском, реже на русском и финском языках. В своих письмах на русском языке Грот обычно обращался к Лённроту: «Любезный Илья Иванович!» — и это же обращение усвоил Плетнев. Письма Лённрота и Грота свидетельствуют о дружественном и доверительном отношении корреспондентов друг к другу, о стремлении преодолеть языковые и национально-психологические барьеры, о готовности к сотрудничеству и взаимной поддержке.
В письмах из Каяни Лённрот рассказывал Гроту о своих фольклорных поездках, поощрял его занятия финским языком. В письме от 18 ноября 1840 г. Лённрот писал: «Те затруднения, с которыми приходится бороться при изучении чужого языка, особенно велики при изучении финского, в чем виноват отчасти сам язык, отчасти пособия, которые до сих пор не удовлетворительны. Та легкость, с которой ты изучил шведский язык, все же вселяет уверенность, что ты скоро овладеешь и финским языком. А что ты не будешь жалеть затраченных трудов, в этом я желал бы тебя уверить, если бы не боялся быть пристрастным в этом деле».
Лённрот был на десять лет старше Грота и хорошо понимал, что пребывание молодого профессора русской истории и словесности в чужой стране с пробуждавшимся национальным движением могло быть связано и с некоторыми сложностями, — впоследствии Грот действительно с ними столкнулся. Сознавая и допуская это, Лённрот загодя проявлял в письмах предупредительность и деликатность. В письме от 31 августа 1841 г. он писал Гроту: «Желаю тебе хорошо провести время в Хельсинки и надеюсь видеть тебя будущим летом здоровым. Тебе, наверное, встретится немало затруднений и неприятностей на новой твоей должности, но не бойся их — скоро их у тебя не будет, к тому же они полезны в жизни, как соль для пищи». В письмах к Гроту Лённрот обычно посылал приветы Плетневу и общим хельсинкским знакомым.
В свою очередь, в письмах Грота к Плетневу и в его публикациях особый след оставило их совместное с Лённротом путешествие по Финляндии летом 1846 г. Часть пути Грота сопровождал Лённрот. Около десяти дней Грот был его гостем в городе Каяни. Это путешествие и свое пребывание у Лённрота Грот довольно подробно описал в книге «Переезды по Финляндии от Ладожского озера до реки Торнео» (1847). Кстати сказать, эта книга Грота была относительно недавно, в 1983 г., переведена на финский язык в Финляндии как ценный культурно-исторический источник.
В мае 1848 г. Грот снова посетил Лённрота в Каяни. На этот раз он смог пробыть там только один день, и чтобы как-то продлить общение, Лённрот значительную часть обратного пути сопровождал друга. В письмах Грот описал их путевые беседы. Причем необходимо подчеркнуть, что наряду с научно-литературными заслугами Лённрота как собирателя рун и создателя «Калевалы» он чрезвычайно интересовал Грота и Плетнева как самобытная личность, а точнее сказать: и как яркая индивидуальность, и как представитель другого народа. Для Грота и Плетнева это был человеческий характер, тип личности, оформившейся в совершенно иной социальной и национальной среде, с иным жизненным опытом, чем они сами. Более того, как утверждал Грот в одном из писем к Плетневу (от 18 июня 1846 г.), встречи с Лённротом, близкое общение с ним — даже в сугубо бытовом плане — были для него, Грота, чрезвычайно важны в смысле понимания вообще финнов, их национального склада, образа мыслей, психологии, их отношения к самым простым и вместе с тем к самым сокровенным вопросам жизни. Помимо чисто человеческого интереса, Грот в роли посредника между культурами двух народов видел в Лённроте представителя другой, интересующей его культуры. Уже по своему служебному положению Грот сознавал себя как бы послом русской культуры в Финляндии и одновременно изучал культуру страны своего пребывания.
По свежим впечатлениям от встречи с Лённротом Грот писал Плетневу, касаясь и финнов в целом: «Мое положение было бы в высшей степени неприятно, если б я не старался применяться к образу мыслей, понятиям и нравам тех, с которыми имею дело. К счастью, в них есть столько прекрасного, благородного и почтенного, что такое применение для меня вовсе не тягостно. Дружелюбие, которое мне везде оказывают, не может не трогать меня, и чем более я узнаю финнов и Финляндию, тем более ценю их. Если я найду с их стороны взаимность, то могу быть вполне доволен. Нынешняя поездка чрезвычайно распространит и мои сведения о Финляндии, и круг моих знакомых».
И далее уже непосредственно о Лённроте: «Важно также сближение с Лённротом. Я внимательно его изучаю: это тем любопытнее, что он прошел через совершенно другую школу жизни, нежели я. Его школою были лишения и трудности всякого рода. Можно научиться у него равнодушию ко всем удобствам и приятностям. Когда они сами даются, он не прочь от них; когда их нет, ему все равно. Он не боится ни жары, ни холода, не знает ни нетерпения, ни досады от путевых неудач, всем и всеми доволен. Однако ж, здоровье его не так крепко, как можно бы предполагать. Правда, что он уже и слишком пренебрегает им; беспечность о самом себе очень заметна во всех его действиях».
Грота особенно подкупала в Лённроте простота и естественность его поведения, его умение общаться со всеми людьми как с равными, независимо от их положения. Во время путешествия Гроту с Лённротом довелось переправляться на пароме, и поскольку паромщик был занят своим нелегким трудом, Лённрот с готовностью оказал ему маленькую услугу: паромщику хотелось курить, и Лённрот взялся набить ему трубку, прикурил и подал ее — ведь он и сам был заядлым курильщиком, предпочитавшим именно трубку. Грота так тронула эта мелкая подробность, этот незаметный жест человеческого внимания в самых обыденных и вместе с тем неожиданных проявлениях, что ему самому захотелось заиметь трубку; он уже намеревался купить или заказать ее, но догадливый Лённрот прислал ее ему в подарок. В письме от 1 июля 1848 г. Грот благодарил его: «Прими искреннейшую мою благодарность за этот милый знак твоей дружбы и памяти обо мне. Хоть я и не такой усердный курильщик, как ты, однако довольно часто курю из твоей трубки. Иногда я даже беру ее с собой, когда ухожу гулять за город или иду в гости к близким знакомым». И еще примечательный штрих: в автографе цитируемого письма, написанном по-русски, Грот заботливо расставил на каждом слове ударения, чтобы помочь Лённроту в правильном усвоении устной русской речи.
А в письме к Плетневу Грот тогда же писал о своем друге и совместном путешествии: «Мало зная Лённрота, ты не можешь вообразить, что это за человек. В нем такое любезное добродушие, такая простота и непринужденность, что все его знакомые сердечно любят его <…> Хорошо ли ты помнишь его оригинальную фигуру, некрасивую, но приятную, когда к ней привыкаешь? Я даже любуюсь им, особенно когда он говорит и поводит руками, а головой покачивает взад и вперед. Рассказывая что-нибудь смешное, он сам часто хохочет. Одежда его так же оригинальна, как и приемы. На голове его суконная зеленая шапка на вате с козырьком и бархатным околышком.
Пальто сделано из деревенской шерстяной материи серо-коричневого цвета с черным бархатным воротником и такими же обшлагами: все оно стоит 16 рублей 50 копеек ассигнациями и сделано в Каяни. Его носит он и в городе. Сапоги у него крестьянские особого фасона, непромокаемые. Так одевается он не для того, чтобы странничать, а потому, что к тонкому платью не привык и должен быть очень бережлив».
Не только внешность, но и оригинальность ума привлекала в Лённроте Грота. Описывая последнюю в пути беседу с ним перед расставанием («Не теряя времени, разговаривали мы беспрестанно и могли сообщить друг другу много нового»), Грот заключал: «Для человека, живущего посреди обыкновенных житейских интересов, всегда бывает особенно поучительно послушать такого, который действует совершенно в другом мире, и притом истинного мудреца. Так было и на этот раз».
Атмосфера и интонация писем Грота таковы, что его чувство удивления и восхищения Лённротом нельзя считать ни обычной данью светской вежливости, ни преувеличенно-сентиментальным преклонением. Множество не столь, может быть, выразительных, но очень похожих подробностей физического и духовного облика и обаяния Лённрота сохранилось в памяти других его современников. Так что Грот в этом отношении не был исключением. В его живых и пытливых наблюдениях запечатлелось нечто от действительной сущности характера Лённрота.
Надо прямо сказать, что Плетнева эти путевые впечатления Грота привели в восторг. «Подробности новой поездки твоей в Каяну и свидание с нашим другом Ильей Ивановичем восхитительны», — писал Плетнев в ответном письме. И далее он развивал зародившуюся у него мысль о необходимости написать обстоятельную книгу о Лённроте— одновременно и для русского, и для европейского читателя. Самым подходящим автором такой книги-биографии мог стать именно Грот. «На твоем месте, — писал ему Плетнев, — понемногу я умудрился бы составить и напечатать совершенно в небывалом роде характеристику Лённрота, да такую, чтобы она изумила европейцев (тебе легко вдруг тиснуть ее по-русски, по-шведски, по-французски и по-немецки). Ведь это совершенно герой для Тацитовского пера».
Примерное направление будущей книги о Лённроте представлялось Плетневу следующим образом: «Надобно срисовать его сперва по отношению к образованности, в чем он нисколько не уступает спесивым ученым Германии; после описать его внешность в девственной красоте северной природы; далее войти в подробности жизни его в этом краю, о котором нельзя составить идеи, не пожив там; потом провести его перед читателем по всем картинам местной цивилизации и, наконец, заключить все это Лённротом-сыном, живущим, как дитя, у отца и матери. Выйдет книга: Северный Плутарх — для невежественных европейских спесивцев».
Следует, конечно, учитывать, что вышецитированное письмо Плетнева писалось в 1848 г., в пору европейских революций. Во многом под их влиянием, как и под влиянием всей общественной атмосферы, отношение Плетнева и к Западу, и к русскому западничеству становилось более критическим. На фоне острых политических событий во Франции и Германии относительно уединенный европейский Север — Скандинавия и Финляндия — представлялись Плетневу более спокойным регионом, и именно скандинавской и финской культурой увлекался также Грот. В ту пору Плетневу приходила мысль сделать «Современник» вообще северным журналом». Он был настолько увлечен финско-скандинавской темой, что стремился пробудить к ней интерес и у Н. В. Гоголя, о чем есть любопытные свидетельства. В письме к А. О. Россету от 11 февраля 1848 г. из Италии Гоголь, прося прислать ему «только те книги, где слышна сколько-нибудь Русь», добавлял не без улыбки: «Я очень боюсь, чтобы Плетнев не стал потчевать меня Финляндией». Впрочем, усилия Плетнева и Грота не были совершенно бесплодными, и Гоголь даже высказал желание приобрести книгу о финской флоре. В письме к С. П. Шевыреву от 3 сентября 1849 г. Грот писал: «Гоголь, вероятно, уже воротился из своей поездки. Потрудитесь передать ему, как мне жаль было, что я не мог дождаться его в Москве. Он просил меня достать ему финскую флору. Я и хотел тотчас же исполнить его желание, но, к сожалению, узнал, что финской флоры еще никогда не было издаваемо».
Небезынтересно отметить в этой связи, что книгу под названием «Финская флора» впервые издал Лённрот, но только позднее, в 1860 г. Не исключено, что десятилетием раньше Грот и справлялся о существовании подобной книги у Лённрота. Изданная Лённротом книга имела фармакологический уклон, она была о лекарственных растениях, и, возможно, именно подобного рода информация интересовала Гоголя.
Намерению Плетнева, редактора «Современника», сделать его «северным журналом» не следует особенно удивляться, тем более, что в тогдашней русской литературной периодике уже был подобный пример: с 1845 г. выходил журнал под названием «Финский вестник», издававшийся Ф. К. Дершау. В некотором смысле у Дершау были финские корни, он был сыном военного коменданта в Турку, долгое время жил в Финляндии, владел шведским языком. Между прочим, начав издавать свой журнал, Дершау отлично сознавал, что к тому времени в России вообще возрос интерес к Финляндии. Участились поездки в этот край, и для многих жителей Петербурга Финляндия явилась, по свидетельству Дершау, настоящим откровением. Как штрих эпохи приведем следующую выдержку из журнала Дершау: «В былые, еще недавние времена мы, русские, зная Финляндию по одной лишь географии, воображали ее какою-то таинственною и мрачною страною, чуждой всякого европеизма. И никто из нас не пытался проникнуть вовнутрь Финляндии, чтобы поверить истину со сказанием; и долго, долго господствовало это нелепое мнение о наших добрых северных соседях. Но вот настало время сближения и сродства финнов с русскими, и Петербург первый протянул руку дружбы великолепной столице Финляндии. Все то, что прежде казалось нам смешным и диким, вдруг сделалось полным прелести и очарования, и тысячи петербургских жителей понеслись по волнам Балтики, к веселому и шумному Гельсингфорсу. И гордая бедность финнов, и дикая, угрюмая природа страны, в воображении нашем навевавшая холод надушу, — все сделалось для нас очаровательным, и мы с восторгом спешим к финским скалам, начиная постигать дивные, поражающие красоты этой величественной природы. Мода на Гельсингфорс составляет исключение из общего закона мод. Каждая современная мания более или менее непостоянна, как петербургское небо; но вот уже семь лет как проявилась в Петербурге сознательная гельсингфорсская мания, и с каждым годом она видимо вкореняется в публику и обращается в потребность петербургского человека».
Получив от Дершау предложение о сотрудничестве в его журнале по вопросам финской и скандинавской культуры, Грот, однако, отказался и остался верен плетневскому «Современнику». Не во всем совпадали линии «Современника» и «Финского вестника», что проявилось и в их различном отношении к Финляндии. Если Дершау, как это видно и из приведенной цитаты, акцентировал «европеизм» финской жизни, привлекательность «веселого и шумного Гельсингфорса» на фоне экзотических скал, то Плетнев усматривал в Финляндии некую противоположность Западу, в фигуре Лённрота — прежде всего «сына природы» в укор «европейским спесивцам».
Однако есть в рассуждениях Плетнева и Грота о Лённроте и несомненная прозорливость, широта взгляда. В личности и деятельности Лённрота они чутко уловили синтез двух равноправных начал: слияние европейской образованности и еще не утраченной связи с национально-народной средой, финской почвой. В первичной общей постановке это очень верная и важная мысль. В той или иной форме она будет высказываться многими исследователями, хотя с различными акцентами: то в облике Лённрота будет подчеркиваться его ученость, то его преемственная связь с традиционной народной культурой. Но важен был именно синтез-слияние этих двух начал. Или, как образно выразился финский поэт Эйно Лейно, в личности Лённрота хельсинкский ученый подавал руку карельскому коробейнику.
Грот, к сожалению, не нашел возможным взяться за книгу о Лённроте. В письме-ответе Плетневу он привел три довода: 1) среди европейцев книга едва ли нашла бы читателей; 2) ее лучше будет написать потомкам, а не современникам; 3) и, наконец, собственная занятость Грота не оставляла времени на другое.
Пытаясь переубедить Грота, Плетнев писал ему: «Чтобы европейцы стали читать биографию Лённрота, нужно только написать ее вполне достойно предмета. Этот человек в мире общежития, в мире учености и в мире физиологии есть явление чисто небывалое. А такие явления возбуждают внимание повсюду <…> Потомство без нас никогда не узнает подробностей и, можно сказать, чудес его жизни. Круг твоих занятий — не одна кафедра, но вообще все, что в нравственном и умственном мире изумительно. Впрочем, ты лучше знаешь, что тебе по силам».
Плетнев был разочарован отказом, но теплые чувства к Лённроту у него остались. В следующем письме он просил Грота: «Напиши ему, что для меня совсем не все равно, помнит ли обо мне какой-нибудь житель Каяны; что я услаждаюсь мыслью о нем и поздравляю человечество, любуясь на его высокое существование».
Нет смысла упрекать Грота за ненаписанную книгу — можно только быть благодарным ему за все то, что он сообщил нам о Лённроте. К тому же слишком высоко была поднята Плетневым планка — уж очень большие ожидания он возлагал на будущую книгу, хотя его ссылки на Тацита и Плутарха относятся, конечно же, не к потенциальному биографу, а к личности самого Лённрота.
Более странным, чем отказ Грота от написания биографической книги, представляется то, что книги о Лённроте на русском языке нет и полтора столетия спустя. Особенно странно ее отсутствие в Карелии, для культуры которой Лённрот сделал так много. Чем была бы для нас эта культура без «Калевалы» и «Кантелетар», без мировой славы этих классических книг, переведенных на десятки языков? Каким был бы международный «имидж» карельской культуры без учета того, что «Калевала» оказала мощное влияние не только на литературу и искусство Финляндии, но и соседних балтийских народов? Подчас это влияние достигает весьма далеких стран — примером может служить пробудившийся интерес к «Калевале» у народов Африки, а еще намного раньше, в середине XIX века, под ее воздействием американский поэт Генри Лонгфелло написал свою «Песнь о Гайавате» на материале индейского фольклора. Достаточно пообщаться с этой поэмой в великолепном переводе И. А. Бунина (1898), как вы почувствуете ее родство с «Калевалой» даже в интонации и ритмике.
Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома?
Я скажу вам, я отвечу:
«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэев,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Надаваги».
В предисловии к своему переводу И. А. Бунин приводил слова немецкого поэта Ф. Фрейлиграта, переводчика поэмы на немецкий язык, о том, что Лонгфелло «открыл американцам Америку в поэзии. Он первый создал чисто американскую поэму, и она должна занять выдающееся место в Пантеоне всемирной литературы».
То же самое сделал Лённрот для Финляндии и Карелии.
В своем сверхидеологизированном прагматизме мы часто неблагодарны по отношению к прошлому, подходим к нему слишком односторонне, стараясь втиснуть его в узкие рамки нашего политизированного настоящего, бездумно отбрасывая и искажая все не приглянувшееся нам, хвастливо кичась нашим мнимым превосходством даже над выдающимися людьми и культурными явлениями прошлого.
Спасибо, что хоть кое-что о Лённроте мы узнаем в редкие дни юбилеев «Калевалы» из предисловий к ней. Впрочем, как уже упоминалось, к юбилею 1949 г. были опубликованы в русском переводе письма Лённрота к Гроту. К очередному юбилею 1985 г. на русском языке появились в сокращенном виде «Путешествия Элиаса Лённрота» (отрывки из путевых очерков, дневников и писем). Это ценные издания, и мы будем ссылаться на них, к тому же переводы отличаются хорошим качеством. Но все же это еще не биография Лённрота, а лишь материалы к ней.
Ощущавшийся недостаток знаний о личности Лённрота, его эпохе и культурно-историческом значении совершенного им порождало упрощенные представления о нем. Весьма расхожим применительно к Лённроту стало, в частности, выражение: «скромный сельский лекарь». Впервые оно промелькнуло у нас в предисловии О. В. Куусинена к изданию «Калевалы» 1949 г., а затем перекочевало в газетные статьи и даже в стихотворения некоторых поэтов.
Причем в подобных случаях подразумевалось нечто прямо противоположное тому, что имели в виду Грот и Плетнев, рассуждая о Лённроте. Подразумевалась не высота интеллектуальной «планки», которую сумел вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам превзойти Лённрот, а, напротив, некая провинциальность и интеллектуальная ограниченность, якобы подобающие «скромному сельскому лекарю» из захолустья. Словно Лённрот нуждался в каком-то снисходительном к себе отношении. Но он вовсе в этом не нуждался и не нуждается — природная скромность сочеталась в нем с достоинством. Однако в таком снисходительном восприятии уже не подчеркивались ни европейская образованность Лённрота, ни незаурядность его природного ума, ни его научное подвижничество. Больше не было нужды в таких интонациях, как, например, в статье Грота 1840 г.: «Хвала и честь господину Лённроту! Чтобы вполне оценить услугу, какую он оказал не только своему отечеству, но и всему ученому миру, надобно знать все те трудности и лишения, которым он добровольно подвергся для совершения своего высокого замысла».
Необходимо прежде всего отрешиться от превратного представления, будто Лённрот был всего лишь «скромным лекарем» — он был и высокообразованным филологом-гуманитарием, весьма чутким и прозорливым в понимании главнейших национально-культурных задач своего времени. Да и в понимании проблем народного здравоохранения Лённрот как медик и просветитель вовсе не отставал от своего века, если взглянуть на его деятельность исторически.
О филологических возможностях Лённрота свидетельствует, в частности, его языковая подготовка, о которой обычно даже не упоминается в наших изданиях. Начав учиться поздно, только в двенадцать лет, и зная к тому времени только родной финский язык, Лённрот овладел со временем полдюжиной иностранных языков, древних и новых: древнегреческим, латинским, шведским, немецким, русским, в значительной степени французским и английским и вдобавок еще карельским и саамским. Кстати, в латыни и древнегреческом Лённрот чувствовал себя настолько уверенно, что в одно время даже подумывал сменить врачебную должность на место лицейского преподавателя этих языков, а заодно и математики, курс которой ему тоже довелось прослушать в университете (в ту пору университетская подготовка была многопрофильной). Шведский язык, наряду с финским, стал для Лённрота основным литературным языком, на немецком и русском он сравнительно свободно объяснялся, а карельским и саамским обходился в своих экспедиционных поездках по соответствующим регионам.
Нелишне напомнить и о международном признании заслуг Лённрота, являвшегося почетным членом ряда зарубежных научных обществ и академий, в том числе Российской Академии наук. Все это плохо вяжется с укоренившимся представлением о «скромном сельском лекаре», хотя по своей натуре и привычкам Лённрот действительно был очень скромным человеком, смущавшимся от малейшего намека на славословие и официальное возвышение. Сам он не увлекался ни орденами, ни медалями — ими играли его дети, в чьих тайниках они и хранились.
Подчеркнем: расхожий и упрощенный стереотип во многом обусловлен внеисторическим подходом и к личности Лённрота, и к его эпохе. Поэтому важно понять деятельность и фигуру Лённрота в контексте его времени, к чему и будут направлены наши усилия в данной книге.
Помогут в этом лучшие из существующих финских работ о Лённроте, опубликованных в разное время. Наиболее капитальным является двухтомный труд А. Анттила «Жизнь и деятельность Элиаса Лённрота» (1931 —1935), впоследствии переизданный. Фольклорно-литературной и составительской стороне деятельности Лённрота посвящены многие работы В. Кауконена, в том числе его книга «Элиас Лённрот и Калевала» (1979), переведенная на некоторые европейские языки. Врачебная деятельность Лённрота освещена в книге Р. Хейккинена (1985), и в том же году вышла краткая общая его биография, написанная Т. Королайнен и Р. Тулусто. Заслуживают внимания также книги и статьи А. Алквиста, О. А. Каллио, Э. Лейно, В. Таркиайнена, Ю. Хирна, М. Хаавио, Р. Коскимиес, эстонского исследователя и переводчика «Калевалы» А. Анниста и других авторов.
В 1990-1993 гг. в Финляндии вышло капитальное пятитомное издание избранного наследия Лённрота (общая редакция и составление Р. Маямаа). Выходу издания предшествовала серьезная научная подготовка. Оно включает около пятисот писем Лённрота, журнальные и газетные статьи, научные доклады и другие документы, охватывающие все стороны его деятельности. Это тип академического издания с подробными комментариями и указателями (шведские тексты даются без финского перевода — предполагается, что читателю доступны оба языка). Являясь первым фундаментальным изданием наследия Лённрота, оно принесет несомненную пользу исследователям.
На протяжении десятилетий наследие Лённрота привлекало по причине своей многосторонности самых разных специалистов — фольклористов, этнографов, лингвистов, литературоведов, историков культуры, медиков. Поэтому работ, в которых так или иначе освещается деятельность Лённрота, довольно много, и по мере возможности они будут учитываться в данной книге.
Лённрот был одной из тех ключевых фигур в истории своей страны, с которыми связано само зарождение и формирование современной финской нации, само ее право на историческое бытие и независимое развитие. Вот почему в сознании Лённрота, во всей его деятельности столь остро стояла проблема культурной преемственности, неразрывной и животворной связи между прошлым, настоящим и будущим нации. И фольклору, народным традициям принадлежала в этом первостепенная роль.
О многих сторонах исторической и культурной жизни пойдет речь в нашей книге, но в центре постоянно будет именно фигура Лённрота на фоне его эпохи. Сам образ времени предстанет преимущественно в лённротовском восприятии, через его личность.
Хотелось бы в этой связи предварительно сказать об особом ракурсе дальнейшего нашего изложения и о том, чем оно, вероятно, будет отличаться от предшествующих работ о Лённроте.
Как уже говорилось, весьма солидная и отлично написанная книга-биография А. Анттила, равно как и другие финские работы о Лённроте, имеют свои достоинства, и мы будем опираться на них прежде всего в фактологическом отношении.
Но Лённрот предстает в них почти исключительно как чисто финское явление, в рамках финской культуры. Сточки зрения финского читателя и истории финской культуры это в общем-то понятно и оправданно.
Однако, имея в виду зарубежного читателя, такой узконациональный подход грозит обернуться недостатком. Поэтому в нашей книге общий ракурс расширяется в двух направлениях.
Во-первых, существенно шире представлен не только финский, но и общеевропейский культурно-исторический фон деятельности Лённрота. Тем самым выявляется, что он отнюдь не был изолированным, единичным и только финским явлением. Причем это был не пассивно-нейтральный, но активно воздействующий на Лённрота фон, подобно тому как и его собственная деятельность имела международный резонанс.
И, во-вторых, в нашей книге уделяется значительное внимание тому, какими предстали перед глазами Лённрота обследованные им районы Карелии и вообще русского Севера. Если обозначить только главные пункты маршрутов Лённрота, то это Выборг, Сортавала, Петрозаводск, Кемь, Кандалакша, Кола, Архангельск, Холмогоры, Каргополь, Вытегра, Лодейное Поле, Валаамский и Соловецкий монастыри. И, разумеется, в центре его внимания были деревни, сельское население, особенно карельское и вепсское. Причем оно интересовало Лённрота не только в фольклорно-языковом отношении, но и с точки зрения быта, хозяйственных занятий, типа построек и т. д. Это же привлекало Лённрота и в русских деревнях.
Сведения, сообщаемые Лённротом, являются свидетельствами непосредственного очевидца, нередко они уникальны и потому особенно ценны. Даже, казалось бы, мелкие подробности народного быта, увиденные зорким глазом умного наблюдателя, приобретают человеческую значимость — без таких подробностей история становится пресной и безлюдной, лишенной реального аромата жизни. Сейчас как-то трудно представить себе, например, что Лённрот полтора столетия тому назад ходил по улицам Петрозаводска, наносил визиты губернатору и городскому врачу, беседовал со священником и студентами духовной семинарии, препирался с местными властями и таможенными чиновниками в связи с претензиями к его паспорту и т. д. Детали, сообщаемые Лённротом, приближают к нам прошлое, делают его осязаемым — без розовой идеализации, равно как и без назойливого обличительства.
Лённрот-путешественник был чрезвычайно любознательным, многое подмечавшим человеком, и через это мы познаем крупную личность в единстве с окружающим ее миром.
ДЕТСТВО И РАННЯЯ ЮНОСТЬ
Элиас Лённрот родился 9 апреля 1802 г. в волости Самматти Нюландской (Уусимаа) губернии на юге Финляндии. Волость Самматти расположена примерно в восьмидесяти километрах от Хельсинки к западу в сторону Турку, тогдашней столицы страны и самого древнего ее города.
Отец Лённрота, Фредрик Юхана, был сельским портным и одновременно мелким земельным арендатором, которых в Финляндии называли торпарями, а их усадьбы — торпарскими. Со временем усадьбу Лённротов стали называть «Пайккарин Торппа», что можно перевести как «Портновское подворье» — под этим названием отчий кров Элиаса Лённрота теперь известен каждому финну как национальная реликвия. Там находится музей, все содержится в таком виде, как это было почти двести лет тому назад.
Сам по себе домик, в котором родился Лённрот, весьма непритязателен с виду, размеры его скромны, он кажется низеньким, обшит серыми от времени, некрашеными досками, да и внутреннее убранство не свидетельствует о достатке.
Но домик расположен на живописном берегу озера, впереди открывается далекий горизонт, вокруг зелень и тишина, возникает чувство уединения, покоя и простора. В самом этом ландшафте с непритязательным человеческим жильем есть нечто от скромной красоты Суоми, воспетой поэтом Ю. Л. Рунебергом, современником Лённрота. Поэт воспевал именно «гордую бедность» финнов, не утративших чувства человеческого достоинства, и это же было присуще нравственным убеждениям Лённрота.
Лённрот любил родные места в Самматти. После долгого отсутствия — двадцатилетнего пребывания на севере в Каяни в должности окружного врача — он вновь вернулся в родную волость, купил крестьянскую усадьбу, где поначалу, будучи профессором университета, жил только периодически, имея квартиру также в Хельсинки, а затем находился в Самматти постоянно и там же завещал себя похоронить.
У Лённрота была особая привязанность к земле, что имело отношение не только к его субъективным эмоциям. Как увидим в дальнейшем, он считал крестьянство и земледельческий труд основой нации и государства. Этим будет определяться его взгляд на окружающий мир и образ жизни людей, особый ракурс его наблюдений над народным бытом — не только в финских, но и в тех карельских и русских регионах, в которых ему доведется побывать. Всюду он будет в первую очередь обращать внимание на то, как обстояло дело с землепользованием и земледельческим трудом, как преуспевал землепашец. Охота, рыболовство, ремесла, торговля (в том числе разносная торговля коробейников) рассматривались Лённротом по преимуществу лишь как приложение к основе основ жизни нации и общества — хлебопашеству и скотоводству. Это была крестьянская точка зрения в аграрном обществе, и именно развитое аграрное общество было в некотором смысле идеалом Лённрота.
Однако следует учитывать при этом специфику собственного социального происхождения Лённрота, а именно то, что он был сыном ремесленника, малоземельного сельского портного.
В тогдашнем сословном обществе сельские ремесленники в Финляндии составляли одну из промежуточных социальных прослоек. Хотя они и были еще в какой-то степени привязаны к земле, но все же земледелие для них являлось побочным занятием. По обычаям времени сельские портные были странствующими людьми. В поисках заказов они обходили деревни своей волости и соседних волостей, зачастую работали на дому у заказчиков, обшивая большие семьи иногда по нескольку недель кряду и затем двигались дальше. Кстати сказать, и сельские школы в Финляндии на первых порах — еще до возникновения развитой системы государственных народных школ — были как бы передвижными (так называемые kiertokoulut); учитель странствовал из деревни в деревню, обучал азбуке, давал задание и обещал прийти снова. И поскольку специально учителей еще не готовили, в их роли нередко выступали, наряду с младшими священниками, канторами и пономарями, также грамотные сельские ремесленники. Во всяком случае среди деревенских жителей они были в числе первых, кто понимал пользу грамоты. И это тоже отразилось в литературе, например, в рассказах известного финского юмориста Майю Лассила.
Промежуточный род занятий торпарей-ремесленников порождал и «промежуточную» психологию. Сельские ремесленники жили обычно бедно — земли было мало, а в неурожайные годы, когда население голодало, не хватало и заказов. И все же сельские ремесленники, ввиду особого рода их занятий, склонны были выделять себя из общей крестьянской массы — они работали не мотыгой и киркой, а иголкой и ножницами, они сознавали себя мастеровыми людьми, у которых была своя цеховая гордость. Пережитки прежней (средневековой) цеховой системы — по меньшей мере в психологии людей — еще давали о себе знать. Все это превосходно изобразил в своих комедиях и прозе Алексис Киви (1834-1872), крупнейший финский классик, который и сам был, подобно Лённроту, сыном сельского портного. Не случайно в его комедии «Помолвка» изображены сельские портные, а в комедии «Сапожники из Нумми» само за себя говорит название.
Эти наблюдения и рассуждения подводят нас к тому, чтобы подчеркнуть одну из культурно-исторических особенностей эпохи Лённрота, равно как и его биографии. Сельская ремесленническая среда, из которой он вышел, являлась в известном смысле как бы предтечей (или одной из предтеч), только-только зарождавшейся тогда национальной интеллигенции. Речь идет именно о финноязычной интеллигенции, корни которой были в народе, включая ремесленническую среду. Можно вспомнить еще одну судьбу — Андерса Шёгрена (1794 — 1855), старшего современника Лённрота, одного из первых ученых-финноугроведов, ставшего российским академиком. Он был финского происхождения, сыном сельского сапожника, прошел трудный путь в науку, и к нему мы еще будем обращаться, поскольку с ним была связана деятельность Лённрота.
Как наиболее подвижная часть сельского населения ремесленники больше других видели вокруг себя, чаще бывали с заказами в чужих домах, более зажиточных, а иногда и господских, хозяева которых были образованными людьми, говорили по-шведски, читали шведские книги и т. д. В какой-то мере это располагало к образованию и бедную ремесленническую среду. И когда сыновья сельских портных и сапожников обнаруживали с малых лет явные природные способности, заметные и простому глазу, отцы не препятствовали их тяге к образованию и даже содействовали этому.
Именно так случилось и с Лённротом, и с Шегреном, и с Киви. Конечно, для этого нужно было счастливое стечение многих обстоятельств, которое наблюдалось, к сожалению, не часто. Лённрот, например, надолго остался единственным человеком в своей волости, сумевшим попасть в университет.
Отнюдь не лишенный чувства собственного достоинства и даже некоторой гордыни, сельский портной Фредрик Юхана Лённрот постарался дать своим сыновьям благозвучные двойные имена, как это было принято у образованных господ. Трех братьев Элиаса звали: Хенрик Юхана, Адольф Фредрик, Густав Эдвард. Для уха финского крестьянина эти имена звучали как шведские и господские. Только младший Элиас остался при крещении с одним и более обыденным (библейским: Илья-пророк) именем. По преданию, случилось это по чистому недоразумению. Новорожденного повезла крестить в довольно отдаленный пасторат соседка Лённротов, которой было наказано передать священнику желаемое двойное имя, но в дороге она его запамятовала, и священник уже по собственной инициативе дал младенцу просто библейское имя Элиас, без модных господских новшеств.
Семья была многодетной, после Элиаса родились еще брат и две сестры. Жили в крайней нужде, часто приходилось питаться обычными тогда для голодной бедноты суррогатами — лепешками с примесью сосновой коры, похлебкой из молотого мха-ягеля (обычного корма северных оленей). Дети вынуждены были просить милостыню, что тоже было привычным в тогдашних условиях. Лённрот потом признавался, что самым ранним воспоминанием детства для него был голод. Мальчик робкий и стеснительный, он не смел, по свидетельству соседей, просить милостыню и стоял у дверей бессловесный, не в силах открыть рта, пока хозяйка сама не вступала с ним в беседу.
Отец был человеком по-своему одаренным, однако не слыл образцовым семьянином. В детские годы Элиаса отец позволял себе часто пить, страдал запоями, чем доставлял много хлопот семье. Крутой нрав хмельного родителя приводил к скандалам и вынуждал мать с детьми искать приюта у соседей и оставаться там по нескольку дней. Вместе с тем отец отличался живостью воображения и ироническим умом, любил сочинять забавные насмешливые песни на местную «злобу дня» и сам же распевал их, обладая хорошим голосом.
Подросший Элиас стал в свою очередь обходить соседские дома и исполнять духовные песни — по давней традиции так поступали еще в средневековье школяры, за что полагалось угощение и скромное вознаграждение либо деньгами, либо натурой. Отец пробовал учить сына искусству пения, сетуя, однако, на его слабый голос. Выросший и возмужавший Лённрот был заботливым сыном, не таил на отца прошлых обид. Оказавшись в Каяни, он купил для родителей усадьбу поблизости от города и всячески помогал им до конца их жизни.
Упомянем и о деде Элиаса по отцу, тоже сельском портном. Вообще этим ремеслом и мелким арендаторством занимались и другие его предки. Дед тоже был известен сочинительством песен и вдобавок играл на скрипке — этот инструмент успел к тому времени уже стать народным и отчасти вытеснил традиционное кантеле. Между прочим, эту смену музыкальных инструментов в народе впоследствии отметил Лённрот в предисловии к сборнику «Кантелетар». Сам он сохранил любовь к старинному кантеле.
Вначале отец стремился приобщить своих сыновей к портновскому ремеслу, в том числе Элиаса. В сыновьях он видел продолжателей фамильной профессии. Элиас был послушным и старательным мальчиком, помогал отцу и нередко странствовал вместе с ним от усадьбы к усадьбе в поисках заказов. Постепенно он стал искусным портным и даже в студенческие годы подчас шил для себя сам. Да и в преклонном возрасте, будучи уже на профессорской пенсии, Лённрот не пренебрегал старинными обычаями — в его доме обходились в значительной мере домотканой и дома сшитой одеждой.
Но уже в самые ранние годы у Элиаса стали наблюдаться иные влечения. И домашние, и соседи замечали в нем нечто особенное, отличавшее его от других детей. В своей среде он казался даже несколько странным и замкнутым ребенком — любил уединение, часто погружался в свой особый мир, словно не замечая происходящего вокруг. Но это вовсе не означало отсутствия внимания и любознательности. Еще в возрасте четырех лет Элиас заинтересовался буквами в книге, которую читал один из его братьев. В пять лет Элиас и сам начал читать по складам и вскоре проявил себя страстным книгочеем. Читал он пока что только по-фински, а количество финских книг тогда оставалось еще крайне ограниченным. Они были по преимуществу религиозного содержания, об их издании заботилась лютеранская церковь, и она же устраивала для детей ежегодные чтения, на которых способности Элиаса были скоро замечены. В семье было решено направить мальчика в школу. И поскольку в крестьянской среде образованными слыли в основном священники, то ученая стезя Элиаса ассоциировалась в сознании односельчан с возможным его восхождением в духовный сан.
В ту пору, в начале XIX в., школ в Финляндии было еще мало, главным образом только в губернских городах.
А финских школ не было вовсе. О школах с преподаванием на финском языке еще только мечтали отдельные энтузиасты, до осуществления этой мечты было далеко.
Об университетском же образовании на финском языке и разговоров не возникало, в начале XIX в. это выглядело бы утопией.
И школьное и университетское образование еще долго оставалось шведоязычным. Ведь Финляндия лишь семь лет спустя после рождения Лённрота, в 1809 г., была отделена от Швеции и присоединена к России. Под властью Швеции она до этого находилась около шести веков, что имело свои последствия. Католическая церковь в свое время пользовалась при богослужениях латинским языком, непонятным народу, а лютеранская церковь перешла на народный язык. И хотя в связи с этим книги на финском языке появились еще в середине XVI в. однако условия оставались такими, что литературный финский язык не мог нормально развиваться, слишком узкой была сфера его применения. На нем издавались почти исключительно элементарные религиозные книги для народа. Школьное образование, судопроизводство, административно-государственные дела — все это еще и в XIX в. велось на шведском языке, хотя с середины столетия кое-что стало меняться. Замедленность культурного развития объяснялась во многом разного рода политическими препонами — и со стороны шведско-финляндских сановников, и со стороны царского правительства.
Чтобы сложилось представление о реальном положении вещей, укажем только на некоторые хронологические рубежи. В 1847 г. на финском языке был издан первый учебник геометрии для будущих финских школ. Но вскоре, в 1850 г., вышел цензурный устав, запрещавший издание на финском языке всех книг, за исключением религиозных и элементарно-хозяйственных; одновременно в члены Общества финской литературы запрещалось принимать крестьян, ремесленников, студентов и вдобавок женщин; а заодно запрещались публичные объявления о собраниях любого характера.
Лишь в 1858 г. в Финляндии была основана первая средняя школа с преподаванием на финском языке, открывавшая для своих выпускников путь в университет. В том же году в университете была защищена на финском языке первая докторская диссертация (до этого диссертации защищались в основном на латыни, отчасти на шведском языке). И хотя в 1850 г. в университете была впервые учреждена должность профессора финского языка, но преподавание на этом языке еще долго оставалось ограниченным. В 1863 г. правительству было внесено предложение о развитии школьного образования на финском языке, после чего был принят указ о двадцатилетнем сроке осуществления практического языкового равноправия. В 1863 г. возникла первая на финском языке учительская семинария для подготовки преподавателей финских школ. Но прошло по меньшей мере четверть века, прежде чем финский язык стал преобладать в образованной среде, в том числе в науке и литературе.
В начале же XIX в., когда ничего этого еще не было, образование Лённрот мог получить только на шведском языке.
Осенью 1814 г. старший брат Хенрик отвез двенадцатилетнего Элиаса в шведскую школу в Таммисаари, в пятидесяти километрах от Самматти. В школе был только один учитель, отчасти понимавший по-фински, но языком обучения был шведский. Овладение шведским, которого Элиас до этого совсем не знал, стало для него первейшей задачей. Он проявил большое упорство и прилежание, с учебой справлялся. Но, разумеется, для свободного владения шведским языком требовалось время. Одно дело научиться читать на новом языке и совсем другое — воспринимать на слух быструю устную речь; и, наконец, самое трудное — научиться самому безошибочно говорить, писать, думать на данном языке, то есть вполне усвоить его, сделать прежде незнакомый язык естественным средством общения. В Таммисаари Элиасу приходилось отчасти объясняться еще по-фински, хотя учитель и требовал избегать этого.
Уже в декабре 1815 г., то есть через год с небольшим, Элиас вынужден был покинуть школу в Таммисаари. Главная причина этого — нестерпимая нужда, которой даже он при своем желании учиться не мог выдержать. Квартировал Элиас в доме одинокой старой женщины, которой он помогал по хозяйству: приносил дрова, подметал и расчищал от снега двор, и за эти услуги она предоставляла ему бесплатный приют. Но кормиться он должен был сам, а еды не хватало; хозяйка видела, как он голодает, но содержать его не могла. У Элиаса не было денег на учебники, родительская помощь оказалась недостаточной. И к Рождеству он решил вернуться в Самматти, чтобы портняжничать вместе с отцом и братьями.
Мысль о продолжении учебы тем не менее не покидала Лённрота. Перерыв был для него только временной передышкой на трудном пути.
Весной 1816 г. он отправился в город Турку поступать в местную кафедральную школу (при старинном кафедральном соборе), что открывало затем доступ в университет. В кафедральной школе состоялось вступительное собеседование с ректором, и сразу же вновь возник вопрос о шведском языке, о степени владения им.
Уже на склоне лет Лённрот в одном из писем, которое было ответом на просьбу известного писателя С. Топелиуса сообщить сведения о своей биографии, следующим образом рассказал об этом собеседовании. Школьный ректор беседовал и задавал вопросы по-шведски, но поскольку Элиас норовил в ответах вставлять финские слова и даже целые фразы, то после тщетных предупреждений суровым экзаменатором было поставлено условие: или будешь отвечать по-шведски, или сейчас же отправишься домой на той же повозке, на которой приехал. По словам Лённрота, это был самый тяжкий экзамен в его жизни. Он заставил-таки себя отвечать по-шведски и был принят в кафедральную школу.
В школе большое внимание уделялось языкам — латыни, древнегреческому, там же Лённрот впервые начал изучать русский язык. Как и в Таммисаари, он хорошо справлялся с учебой и числился в первых учениках своего класса. Но жизнь для него по-прежнему была трудной, полуголодной, к тому же до дома теперь был более далекий путь. Расстояние в девяносто километров Элиас обычно проходил пешком, поскольку денег на оплату извозчика не было. Весной 1818 г., после двух лет учебы в Турку, Лённрот вновь был вынужден из-за крайних лишений оставить школу, решив кое-что подзаработать для продолжения учебы.
Без малого два года Элиас провел в Самматти в родительском доме. Занимался портняжным ремеслом, ходил по окрестным домам исполнять духовные песни. Чаще всего вознаграждение за песни давали продуктами, обычно зерном, и Элиас копил про запас зерно для будущей учебы.
Наконец в марте 1820 г. Элиас поступил в лицей города Порвоо, после окончания которого тоже можно было попасть в университет.
Но учиться в Порвоо ему довелось недолго. Уже через две недели после поступления в лицей ему предложили место ученика и помощника аптекаря в городе Хяменлинна. Аптекарю нужен был юноша, хорошо знающий латынь, и в лицее ему указали на Лённрота в качестве наиболее преуспевающего. Элиас с готовностью согласился, надеясь, что и с учебой потом как-нибудь устроится. Обещанное вознаграждение было скромным, но для него пока достаточным и весьма желанным: ему обещали свою комнатку в аптекарском доме, хозяйский стол и кое-что из одежды, но безденежного жалования. Элиасу улыбнулась удача: быть сытым и одетым, жить в приличных условиях. Кроме того, новое место означало общение с новой средой. Аптекари в Финляндии относились к среднему классу, их быт отличался от простонародного быта. В аптекарском доме за общим столом Элиаса деликатно учили светским манерам, он стал чуть больше следить за своей одеждой.
Главное же заключалось в том, что за два года пребывания в Хяменлинна Лённрот, наряду с фармацевтическими обязанностями, усиленно занимался самообразованием, готовясь в университет. К этому его поощряли местный врач Э. Сабелли и ректор городской школы X. Лонгстрём — последний давал Элиасу бесплатные частные уроки, а врач Сабелли и впоследствии поддерживал его, ссужая деньгами. К счастью, эти люди заметили и оценили способного юношу, проявили к нему доброту и участие.
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОДЫ
В октябре 1822 г. Элиас Лённрот был зачислен студентом на философский факультет Туркуского университета. Со вступительными экзаменами он справился успешно, даже несколько лучше других, получивших более систематическое школьное образование.
Одновременно с Лённротом студентами Туркуского университета стали еще двое юношей: Юхан Людвиг Рунеберг (1804—1877), будущий поэт, и Юхан Вильгельм Снельман (1806—1881), будущий философ и главный идеолог финского национального движения.
Всем троим суждено было стать в истории финской культуры самыми выдающимися представителями своей эпохи. Иногда проводят градацию их известности: если Снельман, как считается, достиг общенациональной известности, а Рунеберг — общескандинавской, то к Лённроту со временем пришла мировая известность.
Как бы то ни было, но всех их по праву называют в Финляндии великими людьми, а еще именуют будителями финской нации, стоявшими у истоков ее культурного возрождения. В память их совместной студенческой юности: скульптурная группа из трех бронзовых фигур украшает сегодня территорию Туркуского университета.
В начале XIX в. университетское образование существенно отличалось от сегодняшнего. Студент получал, может быть, не столь глубокие, но более разносторонние знания. Философский факультет имел в основном общегуманитарный профиль, но включал и естественнонаучные дисциплины. Лённрот слушал лекции по древнегреческой и древнеримской литературе и соответствующим языкам, по восточным литературам, по русскому языку и литературе, по всеобщей истории, математике, физике, химии, истории природы. Только после всего этого Лённрот перешел на медицинский факультет, чтобы получить специальность врача.
Для сельского юноши университетские годы, проведенные сначала в Турку, затем в Хельсинки, много значили в общем духовном развитии. Выходец из бедняцкой среды, он должен был прежде всего утвердить себя в новом окружении, соблюсти и отстоять свое человеческое достоинство. Уже говорилось о том, что Лённроту от природы было свойственно ровное отношение к людям независимо от их материального положения. По отношению к себе ему доводилось испытывать нечто иное. Еще в Таммисаари однокашники из более обеспеченных семей насмехались над его бедностью, над тем, что он даже вынужден был собирать милостыню.
Бедность Лённрота не осталась тайной и в Турку. Еще учась в кафедральной школе, он подрабатывал тем, что служил посыльным в нюландском студенческом землячестве университета.
Когда он сам стал студентом и должен был войти именно в это землячество, кое-кто вспомнил про мальчика-посыльного и посчитал его прием оскорбительным для студенческой корпорации. Все это происходило публично, на студенческом собрании, и неизвестно, чем бы кончилось, если бы не вмешательство куратора нюландского землячества, профессора-медика Ю. А. Тёрнгрена, своей отрезвляющей репликой напомнившего, что и «святым апостолам выпадали на долю лишения».
Несмотря на то, что в университете Лённрот получал небольшое пособие и вдобавок его кредитовали опекуны, средств все равно не хватало, и нужно было думать о заработках. При всей скромности расходов в университетском городе деньги нужны были не только на учебу, но и на какие-то минимальные развлечения, которых требовал сам возраст. Бывали праздники и вечеринки, от участия в которых не хотелось да и невозможно было отказываться. По примеру других студентов Элиас поступил на курсы танцев. Его товарищ по комнате увлекался занятиями музыкой и уговорил Элиаса вступить в музыкальный кружок. Элиас стал учиться игре на флейте, приобрел инструмент и сохранил его на всю жизнь. Он брал флейту с собой в далекие фольклористические экспедиции, она помогала общению с местными жителями. Например, прибыв в незнакомую деревню и увидев ребятишек, Лённрот принимался наигрывать народные мелодии, завязывалась беседа, подходили люди, было удобно расспросить о местных рунопевцах, договориться о ночлеге и прочих вещах. От собирателя песен общение с народом требовало умения и даже искусства — иначе не возникало доверительного и плодотворного контакта. Игра на флейте была для Лённрота-собирателя сопутствующим искусством, он называл себя в шутку «новым Орфеем». Лённрот с удовольствием играл и на деревенских праздниках, когда его об этом просили.
Одним из традиционных способов приработка для бедствующих студентов было домашнее репетиторство в обеспеченных семьях. В истории финской культуры этим занимались в юные годы многие знаменитости — от Лённрота и Рунеберга до нобелевского лауреата Ф. Э. Силланпя.
Лённроту помог найти место домашнего учителя все тот же профессор-медик Ю. А. Тёрнгрен. Сначала место нашлось в семье туркуского чиновника, а затем профессор Тёрнгрен, приглядевшись к старательному студенту, решил пригласить его в собственную семью для обучения и воспитания своих детей, главным образом малолетнего приемного сына. К своим обязанностям домашнего учителя в семье Тёрнгренов Лённрот приступил весной 1824 г., и это было началом его длительного общения с нею, которым он чрезвычайно дорожил.
Профессор Ю. А. Тёрнгрен сам происходил из бедной семьи, однако многого достиг, в том числе материального благополучия. У него было солидное состояние и богатое имение в местечке Лаукко (губерния Хяме). Не дворяне и не аристократы, хозяева были просты в обращении, добросердечны и общительны. Профессор Тёрнгрен возглавлял тогда медицинское управление Финляндии, в его гостеприимном доме собирались врачи, другая интеллигенция. Хозяйка дома относилась к Лённроту по-матерински, его письма к ней согреты душевным теплом и сыновней благодарностью. Лённрот регулярно бывал в городском доме Тёрнгренов, а все каникулы проводил обычно в имении Лаукко. В последующие годы он часто навещал Тёрнгренов, подолгу жил в Лаукко, а в письмах рассказывал о своих занятиях, в том числе о фольклорных поездках. Как считают исследователи, именно в Лаукко, — и не без влияния и одобрения хозяйки дома, — Лённрот впервые начал записывать народные песни. Он записал, в частности, несколько вариантов знаменитой средневековой баллады «Гибель Элины» (сюжет которой, как было установлено исследователями, связан как раз с данной местностью, с семейной драмой прежних владельцев имения). Юношеские записи этой баллады Лённротом не сохранились, но на их основе он потом составил ее сводный текст, вошедший в сборник «Кантелетар». (Упоминание о балладе встречается уже в описании первой фольклорной поездки Лённрота 1828 года.) Вплоть до 1849 г. Лённрот нередко приезжал в имение Лаукко, чтобы поработать и отдохнуть. Готовя к печати второе издание «Калевалы», он прожил там почти целый год.
Общение с семьей Тёрнгренов повлияло также на выбор Лённротом профессии врача.
Здесь следует иметь в виду, что профессиональным филологом по отечественной культуре Лённрот тогда еще не мог стать, — для этого не было условий. В его студенческие годы в Туркуском университете еще не было ни специальной кафедры, в задачу которой входила бы подготовка профессионалов по финскому языку, фольклору и литературе, ни преподавателей по соответствующему профилю. Из университетских преподавателей финским языком в ту пору непосредственно занимался только Рейнхольд фон Беккер (кстати, родственник Тёрнгренов), но и он официально числился не финнистом-филологом, а ассистентом кафедры истории, то есть финский язык был для него еще как бы побочным, не основным занятием. Начиная с 1820 г., Беккер издавал единственную тогда финноязычную (еженедельную) газету, публиковал в ней собранные им народные песни, обсуждал вопросы развития литературного финского языка.
В контакте с Рейнхольдом фон Беккером и под его непосредственным руководством, с использованием собранных им материалов, определились в студенческие годы и фольклорные интересы Лённрота. Темой своей магистерской диссертации, по совету Беккера, он избрал руны о Вяйнямейнене. В феврале 1827 года диссертация (на латинском языке) под названием «Вяйнямейнен — древнефинское божество» была опубликована и защищена. Она была невелика по объему, всего шестнадцать страниц. Ее рукописное продолжение, к сожалению, погибло при пожаре Турку в начале сентября 1827 г. К тому времени Лённрот успел сдать экзамены на кандидата философии. Его гуманитарно-филологическое образование в университете формально этим и ограничилось, дальше он специализировался по медицине.
Пожар Турку, уничтоживший значительную часть города, включая университет, имел и другие последствия. Университетские занятия возобновились только через год, причем уже не в Турку, а в Хельсинки, новой столице Финляндии. Соответственно университет назывался отныне Хельсинкским (в официальных документах —Александровским, по имени императора Александра I).
Осень 1827 г. и последующую зиму Лённрот провел в имении Лаукко у Тёрнгренов. В апреле 1828 г. он отправился на две недели в Самматти к родителям и оттуда в начале мая предпринял свое первое продолжительное путешествие за рунами. Оно длилось четыре месяца, вплоть до начала сентября. Лённрот успел побывать в финляндских губерниях Хяме, Саво и Приладожской Карелии (конечным пунктом был город Сортавала), хотя первоначально он намеревался обследовать также Приботнию и Беломорскую Карелию.
Заблаговременно готовясь к своей первой поездке, Лённрот запасся имевшимися к тому времени немногочисленными публикациями рун (в его заплечном мешке была походная библиотечка); некоторые тексты он скопировал в тетрадь — все это нужно было для того, чтобы лучше ориентироваться в уже известном материале и со знанием дела вести беседы с рунопевцами.
О поездке 1828 г. Лённрот тогда же написал довольно подробный путевой очерк (на шведском языке), видимо, намереваясь его опубликовать. Однако, долго пролежав без движения, рукопись была напечатана только посмертно — сначала на шведском и финском языках в 1902 г. в общих сборниках его путевых очерков и позднее отдельным финским изданием (1951 г.).
Путевой очерк Лённрота озаглавлен на несколько романтический лад: «Странник». Он интересен не только в фольклористическом и автобиографическом отношении, но и как литературное произведение с жанровыми приметами того времени. Как известно, жанр путешествий был весьма распространен среди европейских писателей-сентименталистов и затем романтиков. Были путевые очерки в прозе (например, знаменитое «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна в английской литературе, «Письма русского путешественника» H. М. Карамзина, «Путевые картины» Генриха Гейне); были стихотворные поэмы-путешествия и лирические циклы («Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрона, «Песни странствий» Иозефа фон Эйхендорфа).
В путевом очерке Лённрота присутствует лирико-романтическая индивидуальность автора. Как и положено у романтиков, в очерке есть окрашенный легкой иронией и юмором литературный зачин, повествование с самого начала ведется от первого лица, все описываемые события происходят с участием авторского «я». Автор не просто отчитывается в совершенной поездке, но стремится к определенному литературному стилю. Из очерка возникает представление о конкретном молодом человеке двадцати шести лет с соответствующими возрасту увлечениями, честолюбием и самоиронией, открытой улыбкой и расположенностью к людям. В поездке 1828 г. Лённрот по молодости лет довольно много времени потратил на то, чтобы навестить по пути знакомых по университету, останавливался в усадьбах и пасторатах, где ему оказывали гостеприимство. Более интенсивная собирательская работа развернулась только со второй половины поездки, и на полное осуществление первоначального экспедиционного плана во всем объеме не хватило ни времени, ни денег.
Но общий итог первой поездки Лённрота получился неплохой — ему удалось тогда записать больше рун, чем любому из его предшественников, всего около трехсот фольклорных произведений. Это были по преимуществу заговоры, свадебные и лирические песни с традиционной «Калевальской» метрикой и так называемые «новые песни» более позднего происхождения, ритмически (также мелодически) отличавшиеся от более традиционных. Собственно эпических рун на древние сюжеты было меньше. На основе собранного материала Лённрот опубликовал в 1829—1831 гг. четыре отдельных выпуска рун под названием «Кантеле».
Таким образом, наряду с несколько «развлекательным» уклоном, первая поездка Лённрота преследовала вполне серьезные цели. Она помогла формированию его именно как собирателя, а вместе с тем и как публикатора и исследователя. Важное начало было сделано. Молодому Лённроту необходимо было прежде всего получить конкретное представление о Финляндии, своей родине, о разных ее районах, о народе и народной культуре в широком смысле слова, с учетом ее регионального многообразия. Лённрот был уроженцем юго-западной Финляндии, в восточных районах страны он до этого не бывал. Между тем именно восточные районы и в особенности российская Карелия, до которой Лённрот пока не добрался, нуждались в тщательном обследовании.
Кроме того, в первой поездке Лённрот учился налаживанию контактов с народом. В «Страннике» он рассказывает, что отправился за песнями в обычной крестьянской одежде, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Впрочем, это не требовало какой-то театральной маскировки — он и в обыденной жизни одевался просто. Конечно, крестьян ввести в заблуждение было трудно, при ближайшем знакомстве обнаруживалось, что гость не совсем крестьянин. Заблуждались разве только содержатели постоялых дворов, неохотно предоставлявшие лошадей, поскольку не верили, что у заезжего «простолюдина» могли быть на это деньги. В молодости Лённрот был темноволосым и смуглокожим, из-за чего его подчас принимали даже за бродячего цыгана. Крестьяне в беседе довольно быстро догадывались, что с ними говорит образованный, ученый человек. В деревнях Лённрота называли «магистром» — магистрами для крестьян были все люди с университетским образованием. Доверительному общению помогало умение Лённрота держаться с естественной простотой и уважением к любому собеседнику, без спеси и гордыни.
Об игре на флейте в целях общения уже говорилось, но иногда, по рассказам Лённрота, было кстати спеть во время беседы хотя бы отрывок из старинной руны. Это как бы снимало психологические барьеры между ним и деревенскими жителями, теплела атмосфера, быстрее происходило знакомство. Люди становились более открытыми, гость становился для них своим человеком.
Впрочем, не всегда удавалось преодолеть сдержанность и недоверие, на что были особые причины. Лённрот рассказал о случае, когда он, переночевав в пасторате, отправился на следующее утро за два-три километра к известному в округе рунопевцу-заклинателю по фамилии Хассинен, который, однако, воздержался от исполнения заклинаний незнакомому пришлому человеку. Лённрот услышал от него только две заклинательные руны —дальше исполнять он отказался, тем более не позволил записывать, остерегаясь оказаться в списке колдунов-заклинателей, к которым могли быть предъявлены претензии со стороны властей и церкви.
Крупнейшим открытием Лённрота в первой поездке стала встреча с Юхани Кайнулайненом в деревне Хумуваара прихода Кесялахти. Исследователи считают его одним из самых выдающихся рунопевцев после знаменитого Архипа Перттунена из деревни Ладвозеро Беломорской Карелии, с которым Лённрот встретился шесть лет спустя, весной 1834 г.
По рассказу Лённрота, в дом Кайнулайненов он пришел дождливым воскресным вечером (8 июня 1828 г.), но Юхани, старшего из братьев Кайнулайненов, не оказалось дома — он был на сплаве леса и должен был вернуться в понедельник. Лённрот решил ждать, тем более что Юхани, по словам братьев, знал много рун. В доме к Лённроту отнеслись дружелюбно, и ждать ему пришлось до среды. Юхани вернулся усталый и смог приступить к исполнению рун только к вечеру. А утром следующего дня он собрался было снова на работу, теперь уже вместе с братьями. Лённроту не оставалось ничего другого, как уговорить братьев за особую плату выполнить дневную работу Юхани, чтобы тот смог остаться дома петь руны. Сам Юхани был доволен таким решением, — по его словам, еще никогда его рунопевческое искусство не вознаграждалось целым днем отдыха. Лённрот провел с ним еще один день: на этот раз договорились, что Юхани остается дома работать по хозяйству и одновременно исполнять руны.
Этот описанный Лённротом случай весьма показателен — именно в том смысле, насколько чужда была крестьянской жизни праздность и как непросто было собирателю согласовать с ее трудовым ритмом свои собственные цели.
В очерке Лённрот не цитировал рун, но как исключение привел три заклинательных руны Юхани Кайнулайнена. Это были охотничьи заклинания (охота на оленя, лису, зайца). Из описания Лённрота следует, что Юхани усвоил руны в детстве от отца и считал их некой реликвией, священным даром от прежних времен. С современным «просвещенным веком» руны-заклинания уже плохо уживались, но для него, Юхани, они были дорогим воспоминанием детства.
Другой примечательный фольклорно-этнографический эпизод в очерке — описание крестьянской свадьбы. В качестве гостя Лённрот был ее равноправным участником. Особенно к месту пришлась его игра на флейте, поскольку другой музыки на свадьбе не было, только пение. Лённрот сожалел, что не видел всей свадебной церемонии, — к дому невесты в соседнюю деревню он не догадался поехать и был свидетелем событий только в доме жениха. Лённрот подробно описывает свадебный спектакль-игру, традиционные вопросы-ответы при прибытии молодых, роль каждого из них за праздничным столом, вручение подарков родителям и родственникам, собирание гостевых денег для невесты и т. д. Наряду с этим Лённрот размышляет над возможным историческим «возрастом» тех или иных обрядов свадебного ритуала: одни из них могли быть более древними, другие относительно поздними. Он ссылается при этом на фольклор, в том числе на эпические руны, в которых мотивы сватовства и свадебных поездок занимают важное место. В архаических рунах с сюжетами о сватовстве жених обычно должен пройти через серьезнейшие испытания, с честью исполнить так называемые «трудные задачи» — чаще всего таких задач три, и они могут быть самого фантастического свойства: поймать чудесного оленя, выковать чудо-мельницу Сампо и т. д. Все это Лённрот потом подробнейшим образом отразит в «Калевале». Сюжеты о сватовстве займут в ней центральное место, и вообще весь цикл свадебных обрядов и свадебных песен будет представлен в «Калевале» весьма широко. Уже в очерке 1828 г. Лённрот подчеркнул важность брачного акта и церемонии сватовства в народной жизни. Задавался Лённрот в очерке и такими вопросами: что означает в обрядовой поэзии выражение «продать невесту» и какова была степень свободы выбора в брачном союзе для каждой из сторон, особенно для невесты, — как в древние времена, так и в новейшие? Эти вопросы тоже будут играть существенную роль в сюжетосложении «Калевалы».
Впрочем, как отмечал Лённрот в очерке 1828 г., и в современном ему сословном обществе, среди представителей верхних сословий, свобода выбора в браке далеко не всегда соблюдалась: женились и выходили замуж часто по родительской воле, по сложившимся сословным нормам, иначе говоря, по расчету.
Что касается народной, крестьянской свадьбы, то пожеланием Лённрота было, чтобы она стала предметом всестороннего изучения. По его мнению, народную свадьбу следовало обследовать в сравнительном плане, на основе многократных ее описаний в разных регионах страны.
В раннем путевом очерке Лённрот не раз касался некоторых сторон народного быта и народной морали, особенно среди карельского населения, в финляндской части Карелии. В целом впечатления его были положительными. Он отмечал дружелюбие и гостеприимство крестьян, за ночлег и пропитание с него часто не хотели брать платы. В деревнях не было краж, двери оставались без запоров. Свадебные застолья не обходились без домашнего пива и вина, но пьяных не было, угощались в меру. Не встретил Лённрот пьяных и среди крестьян-обозников, которые возвращались с ярмарки из Сортавалы и с которыми он проехал часть пути. К коварству «зеленого змия» Лённрот был особенно чувствителен, помня о чрезмерных увлечениях собственного родителя, да и студенческие пирушки кончались подчас драками и вмешательством полиции. Когда Лённрот приедет потом врачом в Каяни, он обнаружит, что и среди местных образованных людей алкоголь весьма распространен. Это побудило Лённрота даже основать общество трезвости — или, вернее, «общество умеренности». Сам он не был аскетом, но соблюдал умеренность и ратовал за нее, полагая, что полное и всеобщее трезвенничество — это утопия. Упомянем еще, что Лённрот курил трубку, иногда сигары, и не мог отказать себе в хорошем табаке, как и в кофе.
О Лённроте рассказывали много забавных историй, ему суждено было стать национальной легендой, и одна из историй касается как раз кофепития. Когда Лённрот был уже в почтенном возрасте, к нему явился юный медик и стал с горячностью доказывать, что кофе — яд, укорачивающий человеку жизнь. По легенде, Лённрот с извиняющейся улыбкой заметил, что, выходит, он травился уже больше полувека, но, к удивлению, еще живой.
Лённрота часто характеризуют как человека разумной меры и разумной терпимости, и это правда. Терпимость для Лённрота означала также веротерпимость, которую он приветствовал и в народной среде, чему есть свидетельства уже в его очерке 1828 г. После Сортавалы он побывал в деревнях волости Иломантси, и вот его наблюдения: «Православные в Иломантси составляют примерно треть жителей волости. Несмотря на отличие своего вероисповедания, большинство из них умеет читать по-фински. У многих имеется небольшое собрание финских книг, которые они охотно читают, подобно своим братьям-лютеранам, живя с ними в добром согласии. Думаю, среди них — ни с той и ни с другой стороны — никогда не высказывалось осуждение чужой веры и возвышения своей собственной, что часто служит причиной постоянных раздоров, как это происходит в тех районах южной Европы, где народы разных вероисповеданий живут в соседстве друг с другом либо смешаны. Напротив, в Иломантси лютеране каждое воскресенье посещают православные богослужения, которые начинаются раньше лютеранских, а православные в свою очередь шествуют потом во главе со священником из своей церкви в лютеранскую. Конечно, в эпоху шведского господства дело обстояло таким образом, что за православными закреплялось право переходить в лютеранскую веру, но не наоборот. Теперь же такое право есть только у лютеран. Детям надлежит исповедовать веру родителей. По одежде православные мужчины не отличаются заметным образом от лютеран, но православные женщины носят своеобразный головной убор и просторный сарафан, чаще из красной материи. В Иломантси проживают и православные-раскольники, у них есть два раскольнических монастыря, но мне не удалось их посетить из-за дальности расстояний».
Недостаток веротерпимости Лённрот наблюдал у приверженцев некоторых сектантских религиозных движений. В Финляндии среди лютеран это были так называемые пиетисты — разновидность раскола финской лютеранской церкви в XVIII—XIX вв. О пиетистах Лённрот высказался мимоходом уже в очерке 1828 г., а с православными раскольниками он вплотную познакомился позднее в деревнях и скитах Беломорской Карелии.
Упомянем еще о том, что в первую свою поездку Лённрот, будучи в Сортавале, навестил центр приладожского православия — Валаамский монастырь. Это было в начале июля 1828 г.. Он выехал туда на попутной весельной лодке вместе с двумя валаамскими монахами, и гребли они все втроем по очереди. Пребывание Лённрота на Валааме совпало с большим церковным праздником — Петровым днем — и приуроченными к нему особо пышными богослужениями. К празднествам из Петербурга на паруснике приехало множество гостей, преимущественно богатая публика. Лённрот с любопытством наблюдал и затем описал в очерке островной ландшафт, тип и расположение строений, купола храмов, их роскошное внутреннее убранство, красочность икон и блеск позолоты, яркость одежд священнослужителей и сверкание драгоценных камней в церковной утвари, равно как и в украшениях петербургских дам. Довольно подробно описана и монастырская трапеза, в которой участвовали все гости, в том числе Лённрот. Речь шла о завтраке за длинными столами, уставленными деревянными блюдами с простой, но разнообразной пищей. Ее приготовление было таким, что вся снедь, включая овощи и рыбу, подавалась измельченной, чтобы можно было обходиться одной деревянной ложкой, — вилок и ножей Лённрот не заметил. Из одного блюда ели по четыре человека, питье подавалось в больших жестяных кружках — по кружке на шесть человек. К еде приступали по звонку колокольчика, и колокольчиком же регулировалась смена блюд. Перед каждым новым кушаньем монахи крестились, в течение всего завтрака один из монахов, сидя за отдельным столиком в середине зала, читал подобающие тексты из священных книг. Такие подробности свидетельствуют о том, что Лённрот присутствовал на трапезе не только в качестве завтракавшего гостя, но и внимательного наблюдателя.
От глаз Лённрота не ускользнуло и то, с каким усердием молящиеся во время богослужений в храмах клали земные поклоны. Приезжие дамы в богатых нарядах падали ниц и целовали каменные плиты. Из всех женщин выделялась юная красавица, которая была, по-видимому, в сопровождении матери и молилась особенно страстно и коленопреклоненно, прижимаясь нежными устами к земному праху. Созерцая это, Лённрот мысленно задавал себе вопрос, что же могло предшествовать столь жаркой молитве в судьбе юного существа? За всем этим Лённрот наблюдал с нескрываемым интересом, почти растроганно — и в то же время не без некоторой внутренней оторопи и растерянности, не зная, как ему быть, как вести себя в православном храме. К земным поклонам лютеранин был непривычен, и в результате, по признанию Лённрота, он оставался стоять в одиночестве, чем привлекал к себе внимание окружающих.
Словом, посещение Валаама осталось у Лённрота в памяти, своими впечатлениями от поездки он делился также в письмах. Лённрот воочию увидел иную религию в ее культовых отправлениях, иную разновидность христианства в ее конкретном функционировании и ритуалах. И хотя Лённрот созерцал монастырскую жизнь — при всей его любознательности — несколько отстраненным взглядом (в письме к госпоже Тёрнгрен он, восторгаясь красотами Валаама, тем не менее добавлял, что под конец ему стало скучно и хотелось уехать), все же это был для молодого магистра весьма памятный урок православия. Своей яркой наглядностью и своеобразием этот урок побуждал к размышлениям. Ведь реформированная лютеранская церковь давно уже не знала ни монастырей, ни икон, ни великих постов, ни пышных ритуалов. Лённрот с молодых лет должен был усвоить — и он действительно усвоил — краеугольную для гуманистического сознания мысль о том, что религии бывают разные и что они исторически вправе быть разными. Без твердого усвоения этой кардинальной мысли невозможно было бы относиться и к языческому фольклорному наследию с должным уважением и пониманием.
В живой жизни исторически и этнически разные явления часто сосуществовали, и с этим ничего нельзя было поделать — это можно было только понять и принять. Лённрот относился к подобным разновременно-одновременным и сосуществующим явлениям не без облегчающего душу юмора. На Валааме в час положенного послеобеденного отдыха, предписанного монастырским распорядком, он решил вздремнуть на открытом воздухе в лесочке. По рассказам монахов, на острове водилось много змей, причем их запрещалось уничтожать на святой земле. Лённрот в очерке заметил по этому поводу, что ему змеи были не страшны — от их укусов его оберегал весь запас антизмеиных карельских заговоров и заклинаний.
Из своего первого фольклорного путешествия Лённрот возвратился в начале сентября 1828 г. в имение Лаукко к Тёрнгренам. А в конце октября того же года он отправился в Хельсинки учиться медицине. Необходимо было принять решение о будущей профессии, торопили обстоятельства. Лённрот был в долгах, ему и впредь еще предстояло учиться в долг. Зато будущая врачебная профессия сулила постоянный заработок, которого он был до сих пор лишен. К медицине его склоняли и профессор Тёрнгрен, и врач Сабелли, знакомый Лённроту еще по городу Хямеенлинна и иногда помогавший ему материально.
То, что Лённрот поступил на медицинский факультет после окончания философского, не было в ту пору исключением. Напротив, в тогдашнем университете это было почти нормой, многие врачи шли тем же путем: получали предварительное гуманитарное образование и только потом специализировались. Этим отчасти объясняется, почему у ряда финляндских врачей обнаруживались устойчивые гуманитарные наклонности. В качестве примера можно сослаться на С. Топелиуса-старшего, на друга Лённрота доктора Ф. Ю. Раббе, на университетского профессора-медика И. Вассера, лекции которого Лённрот слушал, но который в 1830 г. уехал в Швецию и участвовал там вместе с другим финляндским эмигрантом А. И. Арвидссоном в открытой полемике по вопросам будущего развития Финляндии.
В отличие от древнего Турку, имевшего свои традиции, новая столица Хельсинки, куда в 1827 г. был переведен университет, даже не успел еще стать настоящим городом. В нем преобладали разрозненные деревянные постройки, новые правительственные здания только закладывались. Большие неудобства испытывал университет, в особенности медицинский факультет.
Тем не менее учеба продвигалась, в декабре 1830 г. Лённрот получил степень кандидата медицины. В мае следующего года он сдал лиценциатские экзамены, а в июне защитил диссертацию по народной (магической) медицине и вскоре на официальных промоциях был удостоен степени доктора медицины.
Но фольклорно-филологические и гуманитарные увлечения остались. Уже летом 1831 г. Лённрот совершил свою вторую экспедиционную поездку, вновь намереваясь добраться до Беломорской Карелии и вновь не осуществив до конца своего намерения. На этот раз его как врача срочно отозвали в Хельсинки в связи со вспыхнувшей эпидемией холеры. Город он застал словно вымершим, было уже много больных, воздвигались холерные бараки, люди в страхе уезжали из города, университет был закрыт, всякие увеселения и сборища запрещены. Тогдашняя медицина еще недостаточно знала о холере, инструкции с современной точки зрения были ошибочными и даже опасными, лечение и профилактика были затруднены. Врачей не хватало, их приглашали извне, в том числе из Петербурга, где тоже бушевала холера. Больные не доверяли врачам и лекарствам, по Хельсинки ходили слухи о злонамеренных отравлениях, возникла угроза «холерных бунтов».
Все это Лённрот пережил на себе и работал не покладая рук. Он рассказывал, например, про случай, когда прописанное больному рвотное лекарство родственники сначала дали на пробу кошке, которая от чрезмерной порции не выжила, и лекарство было отвергнуто как отрава.
Сохранился рассказ и о другом случае, связанном с посещением холерной больницы финляндским генерал-губернатором графом А. А. Закревским, высшим должностным лицом края (впоследствии генерал-губернатором города Москвы). Лённрот был одет не по форме — врачам тогда полагалось нечто вроде мундира, которым он еще не успел обзавестись и потому ходил в своей обычной одежде и даже босиком, — дело было летом. При виде высокопоставленных посетителей Лённроту деваться было уже некуда, он решил изобразить из себя больного и прилег на койку, а сановник, пройдя мимо него, произнес свите: «Этот уже почернел, скоро помрет».
С наступлением зимы холерная эпидемия пошла на убыль, но урон был велик. Всего в Финляндии переболело тогда холерой 1258 человек, из них более половины погибло. Борьба с холерой стала для Лённрота первым серьезным испытанием на медицинском поприще. В тех условиях легко было заразиться и врачу, и в одном из писем Лённрот сообщал коллеге о своем сильном недомогании, подозревая холеру; но, к счастью, все обошлось после экстренного интенсивного лечения. Во время эпидемии Лённрот не нарушил клятву Гиппократа, с честью выполнил свой профессиональный долг. В числе других отличившихся медиков он был отмечен бриллиантовым перстнем от царского имени.
После борьбы с холерой и университетских промоций Лённрот в компании друзей, таких же новоиспеченных докторов медицины, отправился погостить в имение Лаукко у Тёрнгренов. Нужна была разрядка, и Лённрот писал с усмешкой, что «пару дней мы провели отнюдь не по предписаниям медицинской науки, хотя нас собралось целых семь докторов вместе со стариной Тёрнгреном».
Вслед за этим Лённрот совершил летом 1832 г. свою третью фольклорную поездку и на этот раз добрался-таки до Беломорской Карелии, хотя смог пробыть там недолго, поскольку получил извещение о назначении на врачебную должность. Еще до этого он питал надежду занять вакансию окружного врача в финляндской Карелии с местопребыванием в городе Йоэнсуу, но место было отдано другому. В конце сентября 1832 г. Лённрот был назначен помощником окружного врача в городе Оулу, где уже свирепствовала эпидемия брюшного тифа и дизентерии. А в январе 1833 г. его перевели на должность окружного врача в городе Каяни, центре более восточной провинции Кайнуу.
ВРАЧОМ В КАЯНИ
Обширная и редконаселенная провинция Кайнуу по своему географическому положению граничит на западе с Северной Приботнией, на востоке — с Беломорской Карелией. В обоих направлениях она отдалена от морского побережья — и от Ботнического залива, и от Белого моря. С морями ее связывают только порожистые реки, для которых возвышенная часть Кайнуу является естественным водоразделом. Эта сложная система рек и озер, протянувшаяся от Белого моря к «Каяно морю» (так именовался в старинных русских документах Ботнический залив), издавна представляла некоторый торговый и стратегический интерес для Швеции и России в их долгом взаимном соперничестве.
История города Каяни начинается с военной крепости, возведенной в начале XVII в. по приказу шведского короля Карла IX на реке Каяни, откуда и произошло название города. Крепость была построена на маленьком речном острове между двумя порогами, вокруг образовалось поселение, более похожее на деревню, чем на город. Тем не менее в 1651 г., в правление королевы Кристины, Каяни получил статус города, чему в немалой степени содействовал граф Пер Брахе, финляндский генерал-губернатор, владевший в округе Кайнуу обширными территориями. В силу своего положения граф Брахе имел большое влияние на финляндские дела. В частности, при нем был основан в 1640 г. Туркуский университет, с его именем связывают начало просвещения в крае.
До поры до времени Каяни с его крепостью имел для шведов некоторое стратегическое значение. Но после того как во время Северной войны в 1716 г. крепость была (после месячной осады) захвачена и разрушена русскими войсками, она больше не восстанавливалась. Ее руины превратились в исторический памятник, они и сегодня напоминают жителям и гостям города о его прошлом. Другим памятным событием в истории Каяни стало посещение города российским императором Александром I в 1819 г., когда он объезжал вновь завоеванную незадолго до того территорию.
Но затерявшийся среди лесов и болот город практически не развивался. Даже к началу 1830-х гг., когда туда приехал Элиас Лённрот, в Каяни было всего четыреста жителей. Правда, финские города вообще были небольшими, — например, в Оулу тогда проживало пять тысяч, в Хельсинки — десять тысяч человек (столько же жителей, как упоминает Лённрот, было тогда и в Архангельске). Но Каяни и на этом фоне выглядел очень уж крохотным. Даже финским путешественникам, которым случалось впервые побывать в нем, этот город казался чем-то вроде курьеза и недоразумения. О Каяни долгое время рассказывалось немало забавных историй, суть которых состояла в том, что его реальный облик мало соответствовал представлениям о городе и городской жизни. Разумеется, в подобных полуанекдотических историях многое нарочито заострялось. Про известного поэта Ф. М. Франсена рассказывали, например, что при приближении к Каяни ему встретился невзрачного вида возница с подводой, груженной навозом, с вилами в руках, и что тот оказался на самом деле не батраком-работником и даже не просто крестьянином, а членом городского магистрата. Такое казалось тогда смешным сюрпризом, не укладывавшимся в сословные нормы и представления.
Но Каяни действительно оставался еще во многом аграрным городом. Примерно треть его жителей к началу 1830-х гг. занималась сельским хозяйством, обрабатывала землю, держала скот, лошадей, и соответственно выглядели постройки. По описанию Лённрота домики были маленькие и низкие, крытые по обычаю того времени берестой и слоем нарезанного дерна; попадались даже курные избы в самом городе. По улицам бродил скот, в дождливую погоду они превращались в грязное месиво. Земледелием и скотоводством занимались также местные чиновники, купцы, хотя сословные перегородки проявлялись тогда довольно четко и в маленьком Каяни, что еще более суживало круг общения людей. По впечатлениям Я. К. Грота, гостившего в Каяни у Лённрота и через него познакомившегося с местным образованным обществом, оно насчитывало с десяток должностных лиц.
Наряду с земледелием, торговлей, ремеслами, местные жители занимались смолокурением, традиционным для того времени промыслом. Бочки со смолой отправлялись на лодках по порожистым рекам и озерам до приморского города Оулу на вывоз, и это был тяжкий труд, о чем писал и Грот в своем очерке.
В условиях почти полного бездорожья водные пути имели первостепенное значение. Путь от Каяни до Оулу занимал в зависимости от времени года пять-семь дней, до Хельсинки — от двух до четырех недель. Поэтому Лённроту при посещении столицы приходилось тратить на одну дорогу туда-обратно до полутора-двух месяцев. Частые приезды в Хельсинки из Каяни исключались. В столице Лённрот бывал большей частью лишь во время длительных служебных отпусков, которые предоставлялись ему по особому ходатайству. Такие отпуска продолжительностью от года до пяти лет использовались им для экспедиционных поездок и наиболее важных научно-филологических работ.
В ту пору и вплоть до начала XX в. северный округ Кайнуу слыл бедным и голодным краем, что отразилось и в фольклоре, и в литературе. Это уже в наше время Каяни стал вполне современным и благоустроенным городом, в Кайнуу процветает высокопроизводительное животноводство, построены отличные дороги, люди живут в удобных домах.
В период врачебной деятельности Лённрота более трети жителей Каяни составляла неимущая беднота. Из-за частых летних заморозков, с которыми земледельцы еще не умели и не в силах были бороться, случались неурожаи, округ был экономически изолирован, помощи ожидать было неоткуда, да и не поспевала она вовремя. Неурожаи означали голод, а с голодом приходили повальные болезни.
Еще до приезда Лённрота осенью 1832 г. в Оулу помощником окружного врача в крае разразилась эпидемия брюшного тифа и дизентерии — именно для борьбы с эпидемией и требовалась помощь. В задачу Лённрота входило выяснение положения дел в волостях обширной губернии. Больных было уже такое множество, что об индивидуальном обследовании и лечении не могло быть речи, приходилось ограничиваться общими профилактическими советами, причем помощь оказывали священники, в своих проповедях доводившие эти советы до паствы. Священникам же Лённрот оставлял лекарства для раздачи в церквах во время богослужений. Пока Лённрот объезжал волости, его шеф, окружной врач в Оулу, заразился дизентерией и умер. Смертей было так много, что, как писал Лённроту из Каяни тамошний врач С. Роос, иногда в церкви по воскресеньям отпевали до пятидесяти покойников сразу. На место С. Росса в Каяни вскоре предстояло ехать Лённроту.
Читателю, вероятно, интересно узнать, каким было вообще состояние здравоохранения в ту эпоху. Сведения о тогдашней Финляндии приводятся в книге Р. Хейккинена, посвященной врачебной деятельности Лённрота. До середины XVIII в. в Финляндии еще не было профессионально подготовленных врачей и какой-либо государственной системы здравоохранения. Население лечилось народными способами, обычно у знахарей-целителей. Первая должность окружного врача была учреждена в 1749 г. в городе Вааса — один врач на всю Приботнию. К моменту присоединения Финляндии к России в 1809 г. в стране числилось до сорока врачебных должностей, хотя самих врачей недоставало, поскольку часть из них либо погибла на войне, либо выехала в Швецию. В 1810—1820-е гг. были приняты некоторые меры по усилению врачебного надзора, однако положение все еще оставалось таким, что один окружной врач приходился примерно на сорок-пятьдесят тысяч населения. Кроме того, и сами контакты врачей с населением были затруднены еще по той причине, что многие из них не владели финским языком. Исключением в этом смысле был как раз город Оулу, где с 1829 г. стала выходить еженедельная финская газета. Ее инициаторами были городской врач и собиратель фольклора Г. Топпелиус, местные учителя и коммерсанты. В этой газете сотрудничал и Элиас Лённрот.
По сравнению с приморским городом Оулу, имевшем давние торговые связи со Швецией и другими странами, маленький город Каяни и весь округ Кайнуу были куда более глубокой провинцией — и в географическом, и в торговом, и в культурном отношении. Это же касалось и медицины — в глухой провинции она укоренялась медленнее. По местным рассказам, когда император Александр I во время своей инспекционной поездки посетил в 1819 г. Каяни, ему представили городского пономаря-врачевателя, в котором эти две должности совмещались. И на вопрос императора, чем же он пользует своих больных, последовал уверенный и бойкий ответ: «Чаркой, крепким табаком и жаркой баней — это лучшее лекарство от всех хворей».
Впервые должность профессионального врача была учреждена в Каяни в 1823 г., ее занял упомянутый С. Роос (кстати, владевший финским языком), а через десять лет его преемником стал Лённрот.
Время с осени 1832 г. по весну 1833 г. было пиком эпидемических заболеваний на севере Финляндии, и не только Финляндии, но и в соседних русских губерниях. Несколько лет кряду в Кайнуу были неурожаи. Уже в начале сентября 1832 г., как сообщал Лённрот в одном из писем, поля лежали под снегом, несозревший урожай остался неубранным. Это было как бы зловещим предзнаменованием страшной беды. Исследователи считают (и это подтверждается отчасти имеющейся статистикой), что голод и эпидемии унесли тогда в Кайнуу больше жизней, чем опустошительная Северная война в начале XVIII в. Голод и эпидемии свирепствовали по обе стороны границы. Ища спасения, вереницы изможденных людей устремились из волостей Кайнуу на восток в Архангельскую губернию, где тоже были голод и болезни; потом, вконец отчаявшись, уцелевшие пускались в обратный путь. Такие странствия туда-обратно особенно участились зимой в начале 1833 г.
Обычно уравновешенному и хладнокровному Лённроту положение представлялось отчаянным, куда более ужасным, чем во время холерной эпидемии на юге страны, и в письмах он не стеснялся в выражениях. В письме от 2 февраля 1833 г. доктору Ю. Ф. Эльвингу, который все еще оставался в Хельсинки в связи с холерным карантином, Лённрот писал: «Здешние повальные болезни, голод и нищета не идут ни в какое сравнение с той проклятой холерой, с которой я вплотную столкнулся там в Хельсинки и в других местах, равно как и с прочими эпидемиями. Похоже, я родился под самой несчастливой из всех несчастливых звезд на бездонном небосводе, раз уж меня угораздило в самом начале моей врачебной практики оказаться в таком адском пекле, в каком я теперь пребываю».
Отчаянность положения усугублялась массовым голодом, против которого врач был бессилен, не говоря уже о том, что врач был один на всю округу. Как писал Лённрот, «по-настоящему тут не помогла бы и сотня медиков, потому что здешние эпидемии вызваны нищетой и голодом, а без устранения причин невозможно справиться и со следствиями».
Лённроту доводилось бывать в деревенских избах, где вповалку лежала вся семья, а еды у вконец изможденных людей не было ни крошки, не оставалось даже заготовленной впрок заболони — сосновой коры, которую в измельченном виде добавляли в хлеб. В самом городе Каяни и в некоторых волостных центрах Лённрот устраивал в обычных домах лазареты, но соблюсти даже элементарные санитарные нормы было невозможно. Больные лежали просто на полу на соломенной подстилке, скученно и без должного ухода. По мнению некоторых современных специалистов, скученность в подобных лазаретах только увеличивала опасность инфекции, хотя люди умирали и вне лазаретов. «Ужас положения нельзя передать словами, — писал Лённрот, — все это надо видеть и пережить. Уже к Новому году в волости Соткамо умер каждый шестой или седьмой житель, а затем в январе эпидемия продолжала косить людей безостановочно. Разве можно сравнить ту перепугавшую всех хельсинкскую холеру со здешним повальным тифом и дизентерией?»
За те полгода в Кайнуу погибло предположительно около трех тысяч человек — из двадцати двух тысяч населения.
Не уберегшись от тифозной инфекции, в двадцатых числах февраля 1833 г. опасно заболел и сам Лённрот. Болезнь протекала в тяжелой форме, среди хельсинкских знакомых Лённрота даже распространился слух о его смерти (были сочинены даже подобающие стихи в знак соболезнования). В связи с этим Лённрот потом писал со свойственным ему чувством юмора: «Если верить финской народной поговорке, что о хворях богатого говорят, а о смерти бедного и не вспоминают, то я, выходит, должен быть по меньшей мере миллионером».
Заболевшего Лённрота заменил другой врач, но вскоре и он стал жертвой инфекции, и тогда за ним ухаживал уже выздоровевший Лённрот. Во всем этом сказывались условия времени — дело было не просто в личной неосторожности врачей и пациентов, а в общем состоянии медицины и санитарной профилактики.
Хотя столь опасных и губительных эпидемий за время пребывания Лённрота в Кайнуу больше не было, однако забот у окружного врача хватало. В его обязанности входило совершать контрольные поездки по волостям, руководить проведением прививок от оспы, писать отчеты, заявки, заключения, свидетельства о смерти (он выступал также в роли врача-анатома). А кроме того, он был лечащим врачом, принимавшим больных и в Каяни, и во время объездов волостей. Ведь окружной врач был одновременно и терапевтом, и хирургом, и окулистом, и стоматологом. Люди обращались к нему с любыми недомоганиями — в особенности с ушибами, переломами и порезами. Количество лекарств было ограничено, нередко Лённрот приготовлял их сам из трав по собственным рецептам.
Большое значение Лённрот придавал медицинской и вообще просветительной пропаганде среди населения, что в тех условиях было крайне необходимо. В газетах он печатал статьи с целью сбора средств для голодающих, срочно выпустил переведенную им брошюру «Советы в случае неурожая» (1834), написал специальный «Домашний лечебник для крестьян» (1839). Лённрот предпринял издание финноязычного журнала «Мехиляйнен» («Пчела»), выходившего раз в месяц в небольшом объеме в 1836—1837 и 1839—1840 гг. Заполнял его практически сам Лённрот. Наряду с собранными им фольклорными материалами в журнале печатались статьи по истории, географии, медицине, бытовой гигиене, по воспитанию, обучению и уходу за детьми. Статьи дали начало будущим книгам Лённрота. При его участии были подготовлены «История Финляндии» (1839) и «История России» (1840). Впоследствии Лённрот выпустил справочное издание «Флора Финляндии» (1860), имевшее лечебно-фармацевтический уклон, с перечнем лекарственных растений. Добавим еще подготовленный им юридический справочник для крестьян. На финском языке это были первые в своем роде издания, книги для народа с совершенно четкими просветительными целями. С другой стороны, через это развивался и совершенствовался сам литературный финский язык, он завоевывал новые области знания, делал существенные шаги в направлении к тому, чтобы стать современным культурным языком. Как и другие авторы, писавшие тогда по-фински, Лённрот выступал в роли новатора-языкотворца: приходилось вводить в создаваемый современный литературный язык сотни и тысячи новых слов, которых в прежнем церковнокнижном языке и в народных диалектах не было. Делать это надо было, сообразуясь с духом народного языка, чтобы вновь образованные слова были естественны и быстро привились. И Лённрот, большой знаток народного языка, выказал при этом тонкое языковое чутье. Большинство из его лексических новообразований прочно вошли в употребление. Можно проследить, как на протяжении десятилетий развивался собственный финский язык Лённрота, становясь все более гибким и точным.
Фольклорно-филологическая и журнально-просветительская деятельность Лённрота в Каяни требовала времени, и только огромная работоспособность позволяла ему справляться со всем этим наряду со служебными обязанностями врача. Для наиболее капитальных работ и длительных экспедиционных поездок приходилось брать служебные отпуска, которые санкционировались сенатом. Первый — годичный — отпуск Лённроту был предоставлен в 1836 г. для продолжительной экспедиции. Двухгодичный отпуск он получил в августе 1840 г. для работы над фундаментальным финско-шведским словарем и целевых экспедиционных поездок. Самый длительный, пятигодичный, начался в 1844 г. и был использован Лённротом, наряду с продолжением словарной и экспедиционной работы, для подготовки второго, расширенного, варианта «Калевалы». Почти год он работал над рукописью второго издания в имении Лаукко у Тёрнгренов.
Конечно, все это способствовало фольклорно-литературным трудам Лённрота, однако в любом случае нужна была строжайшая самодисциплина и самоотдача, чтобы выполнять задуманное.
По натуре Лённрот не был ни самозабвенным фанатиком, ни фантазером-утопистом — в отличие, скажем, от Даниеля Европеуса, другого крупного собирателя фольклора, пришедшего Лённроту на смену. Лённрот был скорее рационалистом, мыслящим трезво, без громких деклараций, с сознанием реальных возможностей и реальной перспективы. Свое завидное трудолюбие он умел подчинить конкретному делу, всякий раз подчиняя делу и самого себя.
В 1855 г., в речи на заседании финского научного общества (предтечи Академии наук Финляндии), посвященной памяти академика Андерса Шёгрена, своего старшего друга и наставника, Лённрот сказал много теплых слов об исследовательском таланте и неуемной энергии покойного. Лённрот образно говорил о том, что герои бывают не только на поле брани — есть и герои-подвижники науки, есть героизм упорного познания вопреки всем трудностям и преградам. И для человечества, по словам Лённрота, «было бы желательно, чтобы таких подвижников было больше, чем ратных героев». Примечательно, что, характеризуя нелегкий исследовательский путь Шёгрена, добившегося многого целенаправленным трудом и широтой эрудиции, Лённрот вовсе не делал из него книжника-аскета. «Он любил общество и мирские радости, получая от них удовольствие. Но при этом он был способен и расстаться с веселой компанией, чтобы в нужное время уединиться в укромной комнатке либо расположиться просто под тенистой березой или рябиной, достать книгу и справиться с тем заданием, которое он определил себе на день. Кто из нас способен на такое?» Речь Лённрота заканчивалась словами: «Не все мы пойдем дорогой Шёгрена — таланты многообразны и путей их самораскрытия не меньше. Не всем дано сравняться с Шёгреном в глубине учености, в основательности его взгляда на вещи. Но большой победой будет уже то, если в нашем усердии и самоотдаче, простоте и скромности, в честности и справедливости мы смогли бы быть похожими на Шёгрена».
В этих словах выражен идеал Лённрота, которому он стремился следовать. Сходство есть даже в бытовом плане, в том, как Шёгрен и сам Лённрот умели обходиться с дружескими компаниями, чтобы из-за веселья не страдало дело.
Быт в Каяни был весьма однообразным и даже примитивным. Число мало-мальски образованных людей очень ограничено. Среди тех чиновников, с которыми общался Лённрот, заведено было проводить досуг за картами и выпивкой, причем навещали друг друга без особых церемоний — увидят темным осенним или зимним вечером огонек в окне и тут же заходят в предвкушении приятельской беседы и угощения, чтобы скоротать время. Труженик Лённрот пробовал поначалу уклоняться от подобных посещений, но это плохо удавалось, да и изолировать себя от окружающих было невозможно. Однако и в общении случались тягостные моменты. «Знаешь ли ты, что такое тоска и скука? — вопрошал он в дневниковой записи, обращаясь к мысленному другу. — Когда весь вечер сидят и сидят мужчины и без конца несут разную чепуху, так что даже спать нельзя улечься. После таких разговоров самые дурные сны покажутся избавлением. Когда же наконец соберутся уходить, так нет же — все еще продолжают рассуждать с шапкой в руке о том, о сем, а всего-то и надо сказать два слова: спокойной ночи».
Наблюдения за нравами в Каяни побудили Лённрота выступить инициатором движения за более трезвый образ жизни. Пили в Каяни много («Чем меньше город, тем больше пьют», — писал Лённрот); пили в праздники и будни, занимались домашним винокурением, на что тратилось зерно даже в неурожайные годы. Как уже говорилось, Лённрот ратовал не за абсолютное трезвенничество — такое представлялось в тех условиях утопией, а за разумную и достаточно строгую умеренность. Для врача алкоголизм был болезнью, от которой одними запретами и увещеваниями не избавишься. С точки зрения Лённрота, создание общества трезвости с формальным членством воздвигало определенные психологические барьеры — в компании легче было заявить о своем воздержании, когда знали, что ты член общества. Как писал Лённрот в одном из писем, если бы в Каяни такое общество возникло, он был бы первым его членом. «Так трудно и неприятно в одиночку противиться общепринятому обычаю без каких-либо выдуманных отговорок, поскольку никто не желает верить в действительную причину воздержания, заключавшуюся попросту в том, что регулярное и ежедневное употребление грогов вредит здоровью. Всегда в таких случаях подозревают куда менее уважительные причины: мизантропию, ипохондрию, скупость и т. п.». Если же о человеке было известно, что он должен соблюдать уставные правила общества трезвости, дальнейших объяснений вроде бы не требовалось. Правда, не без трудностей, но Лённроту все же удалось в марте 1834 г. создать в Каяни первое общество трезвости, устав которого он сочинил сам, согласовав его с другими членами и опираясь при этом на аналогичный зарубежный опыт.
Быт Лённрота в Каяни был устроен таким образом, что сначала он снимал квартиру, потом купил дом, однако оставаться постоянно в городе ему не хотелось. В соседней волости Палтамо, примерно в двенадцати километрах от города, он подыскал крестьянскую усадьбу с названием Хёвелё — через сорок с лишним лет в том же доме-усадьбе родился крупнейший финский поэт Эйно Лейно (1878 — 1926). Место было красивое, но отдаленное от города, и вскоре Лённрот приобрел за скромную цену довольно запущенную крестьянскую усадьбу поближе, привел ее в порядок и пригласил туда на постоянное жительство своих родителей и близких родственников, помогать которым он считал своим долгом.
Это было хотя и небольшое, но настоящее крестьянское хозяйство со скотом, пожнями и работниками (работами руководил один из братьев Лённрота). В доме была особая комната для литературных занятий, и Лённрот часто работал там.
В июле 1846 г. у Лённрота в Каяни около десяти дней гостил Грот, тогда же посетивший и его сельский дом. До этого они вместе побывали у реки Торнео — самой северной точки их путешествия. На сей раз их целью было восхождение на гору Аавасакса в Лапландии, чтобы с ее величественно-суровой вершины увидеть полночное полярное солнце. Время выбрали подходящее — было летнее солнцестояние. Как рассказывал Грот в письме к Плетневу от 25 июня 1846 г., именно в эту пору Аавасакса привлекала и других путешественников, хотя добраться до нее было нелегко. Остановившись предварительно в крестьянской избе и дождавшись вечера, Лённрот и Грот вместе с проводником направились к горе, «которая возвышается версты на полторы и усыпана крупными, острыми каменьями, так что всход на нее для людей нежных или слабых очень был бы тягостен. Но мы не отставали от проворного провожатого. Там, на вершине, мы уже застали четыре общества приезжих, которые бродили вокруг огня, разложенного на уступе, заслоненного скалою от сильного ветра. Солнце закрыто было тучами, и все уже отчаивались увидеть его. Но ровно в полночь облако перед ним раздвоилось — и солнце запылало ярко, хотя без лучей, на некоторой высоте над вершиной отдаленных гор. С полчаса оно стояло почти на том же месте, тихонько подаваясь к западу». Добавим, что эта поездка на Аавасаксу надолго запомнилась Лённроту, он вспоминал о ней в одном из последних писем к Гроту (от 12 февраля 1882 г.).
В своей книге-путешествии Грот описал посещение летнего дома Лённрота неподалеку от Каяни. Лённрот как врач был тогда в служебном отпуске, его замещал доктор А. Линд, и оба они сопровождали Грота в его прогулке.
«Уединенная, тихая жизнь в Каяни, — писал Грот, — чрезвычайно благоприятствует неутомимому трудолюбию Лённрота. Верстах в трех от города живут в маленьком геймате (усадьбе) старые его родители. Вчера перед обедом я отправился к ним вместе с обоими докторами. Мы шли пешком до места, где надобно было переехать через реку Каяни, чтобы попасть в Полвилу (так зовут геймат). Мы переправились на самой утлой лодочке, которая при малейшем нарушении равновесия легко могла опрокинуться. Ведя трудолюбивую, но спокойную жизнь посреди сельской простоты, родители доктора Лённрота в глубокой старости сохраняют еще полную свежесть сил и бодрость духа. Восьмидесятилетний отец ходит пешком в город и оттуда назад. По прямому стану матери и приветливому лицу ее никак нельзя бы угадать, что ей уже 74-й год. В одной из комнат их стоял большой шкап с книгами: это часть библиотеки доктора Лённрота, который, навещая своих родителей почти каждое утро, продолжает и здесь свои занятия. Старушка угостила нас превосходным кофеем. Самовар, который я здесь увидел, поразил меня, потому что на всем северном пути от Куопио я не встретил еще ни одного. В Каяни почти во всяком доме есть самовар. Этот город много посещается русскими купцами, особенно из Архангельской губернии: в феврале месяце здесь бывает значительная ярмарка, на которую приезжают особенно с пенькою и запасаются, между прочим, мехами».
Далее Грот описывал карельских коробейников, занимавшихся в Кайнуу разносной торговлей, и затем продолжал: «Перед уходом из Полвилы мы выкупались в речке и решились ехать до самого города водою. Мне хотелось испытать плавание по порогам: теперь их было на нашем пути до четырех, впрочем, почти все малозначащие в сравнении с другими. Перед первым из них — Нискакоски — мы причалили к берегу и взяли лоцмана. Он сказал нам, чтобы мы для верности расположились на дне лодки. На третьих порогах кипение волн было всего сильнее; казалось, они, яростно скача вокруг лодки, наперерыв старались втянуть ее в пучину. Доски под нами дрожали, но мы неслись так быстро, что жаль было, когда кончились пороги».
Желая доставить гостю удовольствие спуском по речным порогам, Лённрот вместе с тем проявил, как видим, необходимую осторожность: взял в лодку опытного лоцмана, и сделал это не случайно.
С порожистой рекой Каяни у Лённрота был печальный опыт: за несколько лет до этого с ним и близкими ему людьми произошел несчастный случай с человеческими жертвами. Дело в том, что хотя от города до усадьбы Подвила по прямой было всего три версты, но в весеннюю распутицу и дождливую погоду по суше надо было добираться извилистыми и сильно увлажненными тропами либо плыть по порогам, что было небезопасно. До поры до времени все обходилось благополучно, но 19 мая 1839 г. при возвращении из Каяни с воскресного богослужения вверх по реке лодка в порогах перевернулась, и все пять пассажиров оказались в холодной, еще ледяной вешней воде. Все произошло так неожиданно, что малолетний племянник Лённрота сразу же утонул и был унесен потоком; чуть погодя не удержалась за опрокинувшуюся и зацепившуюся за камень лодку работница-служанка и тоже погибла; двое молодых мужчин сумели продержаться на поверхности воды до прибытия помощи и были спасены; сам Лённрот, мгновенно решив, что попытка еще одного человека ухватиться за лодку лишь увеличит опасность для всех, добрался вплавь до берега. Он хорошо плавал и справился с бурным течением.
Лённрот глубоко переживал случившуюся беду и гибель близких людей.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ БЫЛИ РУНЫ
Город Каяни стал отправной базой для многих фольклорных экспедиций Лённрота. Отсюда было сравнительно близко до Беломорской Карелии, до деревень пограничной волости Вуоккиниеми, известной своими рунопевцами.
Но у современного читателя, если он не очень искушен в сложностях исторического развития культуры, может возникнуть вопрос: для чего нужны были древние руны и мифы, которые забывались уже в самой народной среде? Ради чего понадобилось спасать от полного забвения их последние остатки, сохранявшиеся лишь в самых глухих лесных деревнях, в памяти преимущественно престарелых людей?
Ведь сегодня все равно никто больше не поет этих древних рун, — например, о мудром старце-заклинателе Вяйнямейнене, отправившемся зачем-то в мифическую страну Туонелу, царство усопших; или о волшебном кузнеце Илмаринене, выковавшем в мифические времена звездный небосвод и чудо-мельницу Сампо. В наше нынешнее время рок-музыки и видеотехники разве что эстрадного исполнителя уговорят в дни юбилея «Калевалы» сымитировать нечто похожее на древность — разнообразия ради.
Вопрос: для чего? — неизбежно должен был присутствовать, причем с достаточной ясностью, уже в сознании Лённрота, когда он отправлялся в свои далекие и нелегкие странствия за рунами. Ведь для этого требовалась не только молодая увлеченность и энергия сами по себе, но и некая национально-культурная цель, ради которой стоило потрудиться. Как мы видели, Лённрот-врач и без того был обременен заботами сверх всякой меры — зачем же было взваливать на себя еще дополнительные труды?
Более того, Лённрот должен был ради своего увлечения собирательской работой в чем-то ограничивать личную жизнь. Он сравнительно поздно, в сорок семь лет, обзавелся семьей. Это случилось незадолго до переезда его из Каяни в Хельсинки, когда он успел уже завершить свои многотрудные экспедиционные поездки, длившиеся иногда по году с лишним и занявшие в целом почти двадцать лет жизни. К тому времени были уже изданы его главные книги, составившие фундамент национальной культуры, в результате чего в ее развитии наступил коренной поворот. Не учитывая всего этого, невозможно представить себе, чтобы такой разумно мыслящий и рациональный человек, как Лённрот, решился на подобное самоограничение без глубоко выношенного чувства гражданского долга, просто ради поверхностного и мимолетного «хобби», как теперь говорят.
В течение 1828—1845 гг. Лённрот одиннадцать раз отправлялся в путь за рунами и прошел в своих странствиях около двадцати тысяч километров — пешком, на лыжах, на лодке и на спешно сооруженном из бревен плоту для переправы через лесные озера и протоки, на крестьянских дровнях и верхом на лошади, наконец, на оленях по заснеженной лапландской тундре. Расстояния были огромные и в пути случалось всякое. Доводилось ночевать зимой под открытым небом. В морозы и в курных крестьянских избах было так холодно, что мерзли пальцы при записывании рун; когда топился очаг, по избе низко стелился дым и разъедал глаза (как врач, Лённрот отмечал частые глазные заболевания у крестьян). С наступлением сумерек зажигали лучину, и это тоже не улучшало зрения. Места были глухие, в лесах и деревнях встречались беглые люди, не обходилось без случаев разбоя на дорогах и тропах. После того как Лённрот однажды подвергся в пути преследованию грабителей, он стал более осторожным, но и осторожность порой осложняет жизнь.
Вот о каком эпизоде рассказывается в путевом дневнике Лённрота отлета 1837 г. Он странствовал в районе нынешней Костомукши и шел как раз к тогдашней деревне под названием Костамуш, до которой оставалось, однако, еще пятьдесят верст. Часть пути, до летнего пастбища, он прошел вместе с деревенскими женщинами, но дальше предстояло идти, на ночь глядя, совсем одному. «К полночи, — рассказывает Лённрот, — я прошел половину пути и остановился у избушки для косцов. Хотя я и устал, но ребяческий страх, что кто-то может преследовать меня с целью ограбления, не позволил мне здесь переночевать. Поэтому я прошел дальше, завернул в лес и попытался заснуть на мху. Но из-за комаров это оказалось невозможным. От их великого множества вокруг было просто черно, так что с каждым вдохом их можно было набрать полный рот. Я снова отправился в дорогу, прошел около десяти верст и, вконец уставший, решил все-таки соснуть. Я нарезал большую груду веток, улегся, укрылся ветками, повязал на голову шейный платок и решил, что теперь-то я защищен от комаров. Но все было напрасно. Они добрались до меня, как ни старался я защитить свое убежище. Тут я впервые пожалел о трубке, оставленной на лето в Каяни. Правда, дым костра разогнал бы комаров, но тем самым я мог бы обнаружить себя, а этого мне не хотелось. Мой путь проходил в основном через выжженные под пашни земли и лиственные леса, оттого и такое несметное количество комаров. Намного охотнее я ночевал бы при самом сильном морозе, чем терпеть такие муки, равных которым я не испытывал даже зимой в Лапландии, когда спал на голом снегу. Утром я пришел в Костамуш, расположенную на берегу озера с таким же названием. Деревня состояла из десяти домов, многие из которых хорошо отстроены, а два —даже богато. Мне сообщили, что водном из тех домов мужчина болел заразной венерической болезнью, поэтому я остановился в другом, у Миккитты. На следующий день меня позвали на чай в другой дом, а потом еще не раз приглашали… Руны, сказки, пословицы и т. д. записывал четыре дня. Отсюда по воде добираются до озера Куйтто, Алаярви и в Кемь».
Цитата специально приведена без сокращений, чтобы возникло реальное представление, в каких конкретных условиях и в результате каких усилий собирались руны. И опять зададим вопрос: для чего?
Если ответить кратко, то можно сказать: для того, чтобы на основе веками накопленных богатств народной культуры создать современную национально-самобытную культуру, развить отвечающий современным требованиям общенациональный литературный язык и тем самым содействовать формированию современной нации.
О «Калевале» Лённрота нередко говорят, что она создала современную финскую нацию, явилась как бы «входным билетом», по которому финский народ занял подобающее место в содружестве культурных наций. И пусть это звучит высокопарно и претенциозно — во многом это действительно было так, хотя нация рождается, конечно, не из одних песен и книг. Для того, чтобы возник сам интерес к песням, по меньшей мере у собирателей должно быть относительно развитое национальное самосознание. В истории и в жизни все взаимосвязано, все существует в слитности и во взаимодействии.
Сходные национально-культурные процессы на определенном этапе развития переживает каждый народ, это общая закономерность.
В России основоположником современной русской литературы и современного литературного языка по праву считается Пушкин, и именно он по существу впервые открыл для новой литературы русский фольклор, гениально претворив его в своих произведениях.
В Финляндии в эпоху Лённрота новая литература и современный литературный финский язык только-только складывались. Лённрот был у истоков этих процессов и оказал на них мощное влияние именно своими классическими книгами, возникшими на основе фольклора.
У карельского и вепсского народов до сих пор нет своих развитых литературных языков — карельского и вепсского. Эти литературные языки только теперь начинают создаваться и пока существуют больше в потенции, чем в реальности. После малоудачных и внезапно оборвавшихся попыток 1930-х гг. создать такие языки теперь вновь составляются первые буквари и другие школьные учебники. Однако и в этом случае основой литературного и современного языкового развития могут быть только народная поэзия и народный язык.
Письменная литература и письменный язык у ряда народов сравнительно молоды, тогда как у устной поэзии, у традиционной народной культуры и народного языка — тысячелетняя история, в них заключен тысячелетний опыт, склад народной души. Поэтому зарождающаяся литература и формирующаяся нация не могут обойтись без этого тысячелетнего опыта. Так было, есть и, вероятно, еще долго будет в истории развития каждого народа, каждой нации.
Чтобы нагляднее показать, что деятельность Лённрота, при всем своеобразии его личности и исторических условий, в которых он жил и творил, ни в коей мере не была изолированным и только финским явлением, что она протекала на широком европейском фоне и получила мощные импульсы извне, из разных стран и источников, остановимся для примера на некоторых основополагающих идеях И. Г. Гердера (1744-1803), выдающегося немецкого предшественника Лённрота на поприще изучения народной культуры.
Иоганн Готфрид Гердер был в свое время весьма известной и влиятельной фигурой среди гуманитарной интеллигенции не только Германии, но и других стран. Он оказал огромное влияние на развитие европейской исторической мысли; и историзмом же были пронизаны его взгляды на народную поэзию, язык, литературу, эстетику. Мировую известность получил знаменитый сборник Гердера «Голоса народов в их песнях» (1778-1779 гг.; посмертное переиздание под этим названием, ставшее каноническим, вышло в 1807 г.). Сборник вскоре стал фольклорной классикой, на него ориентировались многие собиратели и публикаторы фольклора в других странах. На сборник Гердера есть ссылка и в предисловии Лённрота к лирической антологии «Кантелетар». Но о характере влияния Гердера на финнов речь пойдет чуть погодя, а сейчас сосредоточимся на наиболее существенных его идеях, отзвуки которых можно почувствовать и у Лённрота.
В гердеровской концепции истории кардинальной и исходной является мысль о том, что развитие человечества как совокупности разных народов представляет собой единство в многообразии. Мировое развитие есть единый процесс, но сохраняется при этом индивидуальное своеобразие народов, равно как и своеобразие исторических эпох — одна эпоха не похожа на другую, у каждой есть свое лицо. Культурное наследие человечества включает великое множество самобытных и самоценных национальных культур — в совокупное целое их объединяют общие гуманистические идеалы человечества.
Многие мысли Гердера, высказанные более двух столетий тому назад, звучат сегодня удивительно современно и актуально, словно в них заключено предвидение нынешних наших проблем. По духу Гердер был убежденнейшим демократом, и это проявлялось в его чрезвычайно уважительном и бережном отношении ко всем культурам, в том числе малочисленных и угнетенных народов, в его остром неприятии всякого национального шовинизма. И это же черта бросается в глаза в наследии Лённрота, в чем мы еще не раз убедимся.
Демократизму Гердера содействовали некоторые обстоятельства его биографии. Уроженец Восточной Пруссии, он после окончания Кенигсбергского университета прослужил некоторое время священником и школьным учителем в Риге, проникся сочувствием к угнетенному положению латышей и других малочисленных прибалтийских народов. Гердеру было хорошо известно, что угнетателями этих народов сплошь и рядом выступали немцы, местные немецкие помещики, но это не смущало его — именно против германцев были направлены его обвинения. При этом следует иметь в виду, что в широком смысле шведы — тоже германцы, и Швеция в определенные периоды была в своей завоевательной политике причастна к угнетению народов Балтии, включая Финляндию и западную Карелию. В одном из главных гердеровских сочинений — «Идеи к философии истории человечества» — есть следующие строки о прибалтийских народах и трагических сторонах их истории: «Они не были воинами, как германцы, ибо даже теперь, после долгих веков порабощения, все народные предания и песни лапландцев, финнов и эстонцев свидетельствуют, что это миролюбивый народ. Атак как, кроме того, их племена обычно не поддерживали связи между собой, а многие из них не имели никакого государственного устройства, то при вторжении других народов не могло не случиться то, что случилось, а именно, что лапландцы были оттеснены к Северному полюсу, финны, ингры, эстонцы и др. попали под иго рабства, а ливы были почти полностью истреблены. Вообще судьба прибалтийских народов составляет печальную страницу в истории человечества».
Обозревая историю человечества преимущественно с точки зрения судеб народных культур, Гердер предавался довольно-таки горьким размышлениям. В истории, во все ее эпохи, господствовало насилие, подавление одних народов другими. То, что принято называть человеческой цивилизацией, начиная с античности, утверждало себя и распространялось вширь в результате войн, покорения соседних племен и народов, навязыванием чуждых им обычаев и попран мм их собственных. Гердер не находил этому оправдания, тем более нравственного; недостаточны были и ссылки на то, что в конечном итоге все же родилась высокая античная цивилизация, — подобная искупительно-оправдательная «философия конечных целей» не удовлетворяла его. По словам Гердера, оправдание было бы равносильно попытке «приписать даже правовой римской истории некий определенный тайный замысел Провидения: например, будто Рим достиг такой высоты главным образом для того, чтобы породить ораторов и поэтов, распространить римское право и латинский язык до границ своего государства и расчистить все дороги для введения христианской религии. Все знают, какие страшные бедствия угнетали Рим и окружающий его мир, прежде чем могли появиться эти поэты и ораторы». «Точно так же обстоит дело и с римским правом: кому не известно, какие несчастья терпели из-за него народы, как много более человеческих учреждений уничтожено им в самых различных странах? Чужие народы подвергались суду согласно обычаям, которых они не знали; они знакомились с пороками и с наказаниями за них, о которых никогда не слышали; и, наконец, все развитие этого законодательства, пригодного только для римского государства, разве оно после множества насилий не исказило характер всех побежденных наций до такой степени, что вместо их индивидуального своеобразия в конце концов повсюду оказался один лишь римский орел, который, выклевав у провинций глаза и пожрав их внутренности, прикрывал их скорбные трупы своими слабыми крылами?»
По мысли Гердера, любая государственная идеология, становясь господствующей, оказывает пагубное, нивелирующее влияние на многообразие культур. «Даже христианство, едва лишь оно начало в качестве государственной машины оказывать влияние на другие народы, стало для них тяжким гнетом; у некоторых оно настолько исковеркало их своеобразный характер, что полутора тысяч лет оказалось недостаточно, чтобы восстановить его. Разве не лучше было бы, если бы национальный дух северных народов, германцев, гаэлов, славян и т. д., развился сам из себя, беспрепятственно и в чистом виде? А что хорошего принесли Востоку крестовые походы? Что хорошего принесли они берегам Балтики? Древние пруссы истреблены, ливы, эсты и латыши пребывают в наижальчайшем состоянии и поныне еще клянут в душе своих поработителей — немцев».
Новоевропейская история, по Гердеру, особенно изобиловала жестокостями по отношению к колониальным народам. «Назовите мне страну, куда бы пришли европейцы и не запятнали бы себя на веки вечные перед беззащитным доверчивым человечеством своими притеснениями, несправедливыми войнами, алчностью, обманом, гнетом, болезнями и пагубными дарами! Наша часть света должна была бы называться не самой мудрой на земле, а самой дерзкой, назойливой, торгашеской; не культуру несла она этим народам, а уничтожение зачатков их собственной культуры, где и как только можно!»
Далее у Гердера следовала обобщающая постановка вопроса: «Что такое вообще насильственно навязанная извне чужая культура? Образование, которое проистекает не из собственных склонностей и потребностей? Оно подавляет и уродует или сразу же низвергает в бездну». «И когда мы кощунственно утверждаем, будто эти притеснения помогают осуществиться предначертаниям божественного промысла, который ведь именно для того и дал нам могущество, хитрость и орудия, чтобы стать разбойниками, грабителями, сеятелями раздора и опустошения во всем мире, — о, кто не содрогнется перед этой человеконенавистнической дерзостью?»
Но и в самой Европе, как считал Гердер, самобытные культуры могли утрачивать свои индивидуальные черты. «Подобно пластам земли в нашей почве, чередуются в нашей части света пласты народностей часто вперемежку, но еще различимые в исходном своем положении. Исследователям их нравов и языков следует использовать то время, пока они еще отличаются друг от друга; ведь в Европе все клонится к постепенному стиранию национальных особенностей. Но только пусть при этом история человечества остережется избрать один какой-либо народ своим исключительным любимцем, принижая этим другие, которым обстоятельства отказали в счастье и славе».
Это была в некотором смысле уже установка и для политиков, для властей, а не только для исследователей. Национальная исключительность и насилие в политике, по Гердеру, могли привести только к катастрофе.
Исследователям же Гердер настойчиво советовал изучать народные культуры именно в их многообразии, хотя более всего его волновала, естественно, судьба немецкой культуры. Однако национальная исключительность и в области культуры была ему чужда. Причем каждая культура соизмерялась в его сознании со всечеловеческим, всемирным масштабом. «Народоведение, — писал Гердер, — необыкновенно расширило карту человечества: насколько больше мы знаем народов, чем греки и римляне!» Внимания были достойны самые малые и «периферийные» народы — независимо от их вероисповедания, политического статуса, оттого, влиятельны ли они или пребывают в порабощении. Хорошо сказал о Гердере его соотечественник, великий немецкий поэт Генрих Гейне. Сопоставляя универсализм Гердера со взглядами тех, кто подходил к культуре народов слишком избирательно, в том числе по степени и характеру их религиозности, Гейне писал, что Гердер с его универсальным гуманизмом «рассматривал человечество как великую арфу в руках великого мастера, каждый народ казался ему по-своему настроенной струной этой исполинской арфы и он понимал универсальную гармонию ее различных звуков».
Стилю Гердера присуща публицистическая страстность, его язык доступен и понятен — в этом отношении он следовал просветительским традициям, особенно Руссо. Хотя Гердера, как и Руссо, нередко относят к предромантикам и хотя его культурно-исторические взгляды действительно сыграли немалую роль в подготовке романтического движения в Германии и других странах, однако Гердер вместе с тем оставался просветителем в самом непосредственном смысле слова. К тому же недаром он был проповедником — это тоже сказалось на его стиле.
Коснемся еще кратко сборника Гердера «Голоса народов в их песнях». Сборник охватывал песни самых разных народов мира и был построен по географическому принципу. Открывался он песнями народов дальнего севера, куда входили песни гренландских эскимосов, саамов, а также эстонцев, латышей и литовцев. Далее следовали песни южных народов (древнегреческие и древнеримские, итальянские, испанские, французские), песни Англии и Шотландии, скандинавские, немецкие и славянские песни и, наконец, «песни дикарей» (мадагаскарские и перуанские). Гердер пользовался большей частью литературными источниками, многие песни давались в его собственных немецких переводах. Хотя сборник включал и литературные обработки фольклора (в том числе песни Оссиана, некоторые песни балладного типа из пьес Шекспира), однако акцент Гердер делал на подлинной народности.
Примером может служить знаменитая саамская песня «Поездка к милой». Еще до Гердера она была известна в немецком переводе-обработке поэта-сентименталиста К.-Э. Клейста и понравилась Г.-Э. Лессингу, посчитавшему клейстовское подражание даже улучшением оригинала. Гердер не склонен был с этим соглашаться и писал своей невесте: «За эту лапландскую песенку я охотно отдал бы десяток клейстовских подражаний. Не удивляйтесь, что лапландский юноша, который не знает ни грамоты, ни школы и почти что не знает Бога, поет лучше, чем майор Клейст. Ведь лапландец импровизировал свою песню, когда скользил со своими оленями по снегу, и время тянулось так долго, пока он ехал к озеру Орра, где жила его возлюбленная; Клейст же подражал ему по книге».
Отметим еще в сборнике Гердера эстонскую песню о жестоких тяготах крепостной зависимости. Как указывалось в примечании к песне, она была не просто поэтическим вымыслом — в ней выразилась сама жизнь, народный стон.
Сборник Гердера «Голоса народов в их песнях» примечателен для нас еще и тем, что это единственная гердеровская книга, о которой встречается непосредственное упоминание у Лённрота. Как уже упоминалось, Лённрот сослался на этот сборник в предисловии к «Кантелетар» и не исключено, что гердеровская антология оказала некоторое структурное влияние и на лённротовскую антологию народной лирики. И там и тут разделы именуются книгами» (у Гердера их шесть, у Лённрота три), хотя сами выпуски-книги и главы-разделы в «Кантелетар» подчинены уже не регионально-географическому, а жанрово-тематическому принципу.
Установлено, что во время работы над «Кантелетар» Лённрот пользовался экземпляром гердеровского сборника, взятым им из университетской библиотеки, тогда как в собственной его библиотеке сочинений Гердера не значилось (сохранился рукописный перечень книг библиотеки Лённрота). Не упоминается о Гердере и в письмах Лённрота. Все это, однако, не дает еще основания с уверенностью утверждать, что с другими гердеровскими сочинениями, кроме сборника песен, Лённрот вообще не был знаком. Кроме того, идеи Гердера могли усваиваться Лённротом опосредованно, они входили в духовную атмосферу эпохи вместе с идеями романтиков, натурфилософией и эстетикой Шеллинга, философией истории и эстетики Гегеля. В личной библиотеке Лённрота не было сочинений Гердера, как и других упомянутых авторов, но был шведоязычный журнал «Мнемозина» туркуских романтиков, с которого как раз и начиналась пропаганда романтических идей в Финляндии.
Следует, конечно, учитывать исторические различия между Финляндией и Германией. Финская культурная почва, по сравнению с немецкой, была менее подготовлена для восприятия наследия Гердера и других представителей немецкой философско-эстетической мысли в полном объеме. В Германии уже в эпоху Гердера существовали мощные научно-литературные традиции, тогда как в Финляндии даже в первой половине XIX в. многое приходилось начинать буквально с нуля, с самых что ни на есть азов.
И тем не менее между различными национальными культурами были общие точки соприкосновения; была общность в направлении национально-культурного развития, стремление к большей самобытности, к историческому осмыслению своего национального бытия. Подобно Гердеру и немецким романтикам, их финские последователи ценили народную поэзию не только саму по себе, но и как основу развития современной литературы в национально-самобытном духе. Аналогичная с гердеровской точка зрения на фольклор приобрела чрезвычайную актуальность для Финляндии первой половины XIX в. Более того, в обращении к фольклорному наследию усматривали одно из главных условий национально-культурного возрождения, формирования современной финской нации.
Гердер в свое время много писал о чрезмерной зависимости немецкой литературы от канонов французского классицизма, от внеисторически воспринятых норм античной культуры. Выход он видел в обращении к национальному фольклору. Его призывы быстрее собирать и изучать фольклор звучали как национально-культурная программа. «Нам, — писал Гердер, обращаясь к своим соотечественникам, — нужно только взяться за дело, воспринимать, искать, прежде чем мы все окончательно не станем образованными классиками (т. е. поклонниками античности и новоевропейского классицизма. — Э. К.), не будем распевать французские песни, танцевать французские менуэты и дружно писать гекзаметры и оды в духе Горация». И снова призыв собирать народные песни: «Итак, примитесь за дело, братья мои, и покажите нашей нации, что она собой представляет и чем она не является, как она мыслила и чувствовала или как она мыслит и чувствует сейчас».
Рядом с этими словами Гердера приведем одну дневниковую запись А. Шёгрена, тогда еще студента Туркуского университета. Двадцатилетний Шёгрен общался с другими финскими студентами, в том числе с Абрахамом Поппиусом, вскоре ставшим одним из первых собирателей народной поэзии у себя на родине. Дневниковая запись Шёгрена от 20 апреля 1814 г. отражает ту раннюю пору, когда у туркуских студентов только-только разгоралась юношеская страсть к будущей собирательской работе и когда взаимные патриотические обеты подкреплялись жаркими клятвами. Шёгрен записал в дневнике: «Вечером после ужина пришел Поппиус, чтобы вместе пойти на прогулку. И тут мы размечтались о будущем, и наши мечты были столь сладостны, что чувствительный ко всему светлому и доброму Поппиус пришел прямо-таки в экстаз. Даже мое более холодное сердце согрелось его пылким жаром на весь вечер. Мы договорились тогда, дали друг другу клятву и скрепили ее рукопожатием в знак того, что останемся верными идее Гердера и будем всеми силами разыскивать и собирать духовное наследие наших предков, касается ли это народных песен, сказок, всего, что может оказаться полезным в исследовании нашего прошлого».
Что здесь имелось в виду под «идеей Гердера»? В своей автобиографии Шёгрен рассказал, что еще в 1812 – 1813 гг., будучи учащимся лицея в финском городе Порвоо, он получил в награду за свое прилежание и усердие свободный доступ в лицейскую библиотеку, чему был чрезвычайно рад. В библиотеке было около трех тысяч книг, в том числе немецких. Он мог читать их в библиотеке, брать домой, а читал он жадно и основательно, делал выписки и переводил тексты с немецкого на шведский, заодно изучая языки (впоследствии академик Шёгрен писал свои труды в основном по-немецки). В руки старательному лицеисту Шёгрену попал издававшийся Гердером журнал «Адрастея», который он читал столь же тщательным образом. О полученном впечатлении лучше сказать словами самого Шёгрена — в автобиографии он писал о себе в третьем лице: «Впечатление от чтения было сильнейшее, оно побуждало в нем (Шёгрене) массу новых идей, воспитывало его вкус, привило ему восторженную любовь к немецкой литературе вообще. В ту пору эта литература становилась все более известной в Финляндии благодаря тому, что шведский издатель Бруцелиус начал тогда издавать «Библиотеку немецкой литературы»; успело выйти уже несколько томов ее первой серии, и они были прочитаны Шёгреном с большим интересом. Такого рода чтение вдохновило его даже на стихотворство, ограничившееся, однако, по преимуществу переводами некоторых мелких вещей».
К этому остается добавить некоторые сведения о деятельности Шёгрена в Петербургской академии наук, адъюнктом (членом-корреспондентом) которой он стал в 1829 г. и экстраординарным академиком в 1832 г. Шёгрен был в основном лингвистом, однако в его обязанности в академии входило также изучение истории России, особенно финно-угорских народов. В 1824—1829 гг. он совершил длительную (почти пятилетнюю) экспедиционную поездку по обследованию финно-угров европейской части России, побывал в Карелии, на Кольском полуострове, в Архангельской губернии, среди коми, удмуртов, марийцев. В целях собирания исторических материалов он подолгу изучал губернские архивы (в том числе в Петрозаводске), исследовал языки. Шёгрен записывал фольклор (в российской и финляндской Карелии, также в Ингерманландии), но почти не публиковал собранные им фольклорные материалы — они были отчасти переданы им в 1848 г. Леннроту, а отчасти лишь посмертно извлечены из его рукописного наследия и опубликованы другими исследователями много десятилетий спустя. Фольклористы иногда называют Шёгрена «слепым собирателем», недооценившим значения собранных им материалов.
Однако это не преуменьшает роли Шёгрена в развитии финно-угроведения в самом широком, комплексном значении этого слова. Он был не только предшественником Э. Лённрота и М. А. Кастрена, но и во многом содействовал их экспедиционной работе. Как член Российской Академии Шегрен пользовался определенным влиянием в составлении экспедиционных программ, в изыскании финансовых средств, в публикации собранных материалов и исследований. Достаточно сказать, что обе продолжительные поездки Кастрена в Сибирь в 1840-е гг. финансировались главным образом Петербургской академией (Кастрен состоял ее адъюнктом), и в России же были опубликованы многие его исследования. Некоторые финские и западные исследователи считают, что именно Петербург являлся до определенного времени центром мирового финно-угроведения. Причем польза от совместных усилий была обоюдной — и для России, и для Финляндии. Еще в 1821 г. Шёгрен писал об этом в изданной на немецком языке в Петербурге книге «О финском языке и литературе»: «Финский язык представляет для русских не только общий интерес, какого он заслуживает уже сам по себе как язык весьма примечательный, но и как язык одной из связанных с ними народностей, изучение которых может многое прояснить в самой русской истории».
Финнам же было важно выяснить свое историческое место среди народов Евразии, свои древние корни, свою этническую историю. Кастрен, едва ли не первый введший в финскую науку понятие этнографии как научной дисциплины, подчеркивал следующую мысль: у некоторых, особенно малых, народов может не быть самостоятельной государственно-политической истории, но у всех народов есть своя этническая история, которую необходимо изучать. Недолгая жизнь Кастрена-исследователя (он умер в возрасте 39 лет от туберкулеза легких) была поистине подвижнической. В последнюю свою сибирскую экспедицию он был уже тяжело болен, харкал кровью, но продолжал исследование все новых народностей. Для этих целей он изучил более двух десятков языков и диалектов и в ряде случаев дал их первое научное описание.
В результате всего этого расширялись представления о прошлом финского народа. Финны уже не казались неким изолированным этническим островком на территории Фенно-Скандии, в соседстве с германцами, с одной стороны, и со славянами, с другой, — они были, по выражению Кастрена, в родстве со значительной частью человечества.
Таким образом, существовала преемственность идей, в том числе гуманистических идей Гердера, оказавших несомненное влияние и на Лённрота.
Вполне естественно, что гердеровская мечта об интенсивном собирании фольклора стала реализовываться прежде всего в самой Германии. Наиболее крупными вехами стали знаменитый сборник немецких народных песен «Золотой рог мальчика», составленный романтиками И. Арнимом и К. Брентано (в двух частях, 1805—1808 гг.) и оказавший огромное влияние на развитие немецкой лирики; и сборник сказок братьев Гримм (1812—1814 гг.), получивший мировую известность. Это только главные издания, ставшие фольклорной классикой.
Между прочим, и карело-финские руны на раннем этапе стали известны Европе через немецкий язык. В 1819 г. в Стокгольме вышел сборник Г. Р. Шрётера «Финские руны» с текстами в оригинале и немецких переводах; помогали составителю финские собиратели рун К. А. Готлунд и А. Поппиус. Позднее сборник Шрётера был переиздан в Германии. Еще до выхода «Калевалы» сборник был известен Я. Гримму, побывал он и в руках молодого К. Маркса.
Еще до Лённрота высказывалась мысль о возможном объединении рун 15 целостную эпическую поэму. В 1817 г. К. А. Готлунд, касаясь вышедшей несколькими годами ранее книги Ф. Рюза «Финляндия и финляндцы» (1809 г., на немецком языке), в которой упоминалось и о рунах, писал, что «если бы только нашлось желание собрать воедино наши древние народные песни и создать из них стройное целое (то ли это будет эпос, драма или еще что-нибудь), из них мог бы родиться новый Гомер, Оссиан или Песнь о Нибелунгах. И, прославившись, финская нация с достоинством и блеском проявила бы свою самобытность, осознала бы свою сущность и светом своего развития озарила бы восхищенные лица современников и потомков». И далее Готлунд связывал это с воспитанием чувства патриотизма. «Подобно тому, как король, неспособный управлять своим народом, представляет собой мнимую величину, так же и народ, не осознавший себя и свою индивидуальность, равен нулю; это живой труп с истекшей и застывшей кровью. Чтобы возродить жизнь в его жилах, необходимо наполнить энергией его душу. Чувство патриотизма является той искрой, которая воспламенит сердца и вдохновит умы. Вот основа великих стремлений сильной нации».
Идея национального самоутверждения — и не только в смысле развития финского языка, литературы, образования и просвещения, но и в смысле соблюдения и расширения политической автономии Финляндии, — все более увлекала ее молодую интеллигенцию.
А. И. Арвидссону (1791 — 1858), одному из наиболее выдающихся ранних «будителей», издававшему в начале 1820-х гг. оппозиционную газету, вскоре запрещенную, традиция приписывает следующие слова, воспринимавшиеся многими современниками как девиз: «Шведами мы не стали, русскими мы не можем стать — так останемся же финнами». И хотя именно в такой форме этих слов нельзя найти у Арвидссона, они хорошо передают дух его публицистики.
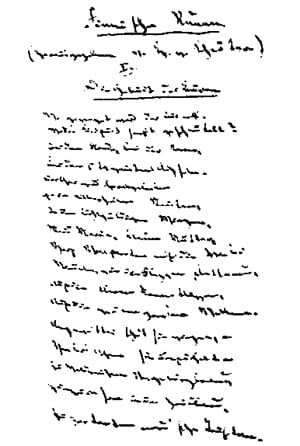
Автограф К. Маркса с руной «Рождение медведя», переписанной им в немецком переводе из сборника X. Р. фон Шретера «Финские руны».
Смысл подобного девиза, в котором отразилось пробуждающееся национальное самосознание, можно по-настоящему понять, только зная финскую историю. В истории Финляндии были периоды, когда шведская ассимиляция представлялась реальной угрозой. Влиятельные круги в эпоху шведского господства подчас придерживались мнения, что финский язык как простонародный («мужицкий») и непригодный для развитой культуры вообще следовало устранить. Один из губернаторов предлагал в 1709 г. «ради экзотики» сохранить финский язык разве что в двух волостях где-нибудь у границ Лапландии.
Вот почему патриотическая интеллигенция подходила к языку не просто как к предмету чисто лингвистического изучения (хотя и это было важно), но как к первейшему условию существования нации. Не будет языка — не будет нации. Поэт-просветитель Я. Ютейни сравнивал язык с обручем, скрепляющим нацию в единое целое.
Борьба за финский язык неизбежно приобрела политический характер, иначе и быть не могло. Отстаивая гражданские права финского языка, К. А. Готлунд писал с возмущением: «Разве не странно, что целая страна должна учить чужой язык, чтобы получить доступ к самым необходимым для любого народа знаниям? Кто бы мог поверить, что во всей Финляндии нет ни одной школы, ни одного лицея, ни единого учебного заведения, где бы преподавали финский язык или хотя бы занимались им? Что все законы и книги светского содержания издаются у нас только на шведском языке и на нем же ведутся все административные дела — это настолько дико, что сами шведы диву даются и, будучи не в силах поверить, лишь недоуменно улыбаются, когда слышат такое. Для нас теперь странно, что когда-то предки наши отправляли даже богослужения на чужом латинском языке, которого не понимали. А наши потомки будут удивляться тому, что мы даже в XIX столетии, в век просвещения, должны прибегать к чужому языку в делах родной страны».
Можно привести немало подобных высказываний, в которых отразились исторические обиды пробуждавшейся нации, осознававшей свою многовековую угнетенность. Уже упоминавшийся А. Поппиус писал: «Мы желали бы по крайней мере показать Швеции, что можем обойтись без ее языка и нравов, и даже без ее Тора и Одина, которых она сумела бы более глубоко укоренить в нас, если бы менее презирала нас и наш язык, когда была нашей мачехой».
Подчеркнем еще раз для ясности, что хотя Финляндия, начиная с 1809 г., входила в состав России, однако еще в течение почти целого столетия — всего XIX в. — финскому языку и культуре предстояло преодолевать шведскую культурно-языковую гегемонию. За предшествовавшие шесть веков шведского господства в Финляндии эта гегемония укоренилась слишком глубоко, и преодолеть ее было непросто. Что же касается потенциальной угрозы русификации, то она стала более или менее реальной лишь на рубеже XIX—XX вв., но к тому времени финский язык и культура уже окрепли в своем развитии.
В эпоху, когда выступил Лённрот, сама задача национального пробуждения нередко еще воспринималась в трагическом свете, ибо слишком многое предстояло преодолеть. Примером может служить знаменитое письмо Ю. В. Снельмана 1840 г. поэту и критику Фр. Сигнеусу из шведской эмиграции. Годом раньше Снельман вынужден был покинуть Финляндию, за либеральное вольнодумство он был уволен из университета. Между тем в связи с двухсотлетним университетским юбилеем было произнесено немало восторженных речей об успехах просвещения в Финляндии. Снельману из эмиграции это показалось опасным прекраснодушием — сам он готовился вернуться в страну для того, чтобы развернуть оппозиционную пропаганду и сформулировать программу национального движения.
В упомянутом письме к Фр. Сигнеусу Снельман, будущий лидер финского национального движения, призывал отказаться от прекраснодушных иллюзий и взглянуть на вещи с трезвостью реалиста. «Оглянись кругом и найди, кого из правящих лиц трогает материальная нищета деревни или кто из университетских мужей ломает голову над тем, чтобы просветить финское крестьянство. Я уже не говорю о легионе тех, у кого не оказывается совести, когда приходится выбирать между интересами родины и жалованием, орденами и т. д.». Шведская дворянская верхушка, по словам Снельмана, была неспособна защищать национальные интересы финнов от притеснений царизма, ибо «из нее образовалась чиновничья аристократия, которая пресмыкается и угнетает народ». Истинные патриоты должны были выйти из народа, но «продолжительное угнетение народной массы привело к тому, что она замкнулась в себе: решаются критиковать разве только исправника да священника, а губернатор — это уже маленький бог, сенатор — превыше всего. Мысль о возможности лучшего едва л и когда проникала в народ». Вместе с тем низы питали глухую неприязнь к господам. «Что ты думаешь, — спрашивал Снельман Сигнеуса, — как финский крестьянин воспринимает ваш юбилей? Что он знает об университете? Да только то, что все, кто там был, люди другого сорта, чем он сам, и потому вправе поступать с ним, как угодно. Быть может, он получает оттуда судей с законами и справедливостью? Спроси его, что он думает об этой справедливости? Лишь то, что господин всегда прав, а он всегда неправ».
Народ, по мнению Снельмана, не был удовлетворен, и церковью. Имея в виду распространенность пиетистского сектантства, он писал, что «половина страны ищет христианства по-своему, потому что его нету священнослужителей. Иначе и быть не может там, где существуют только угнетатели и угнетенные».
Вывод был печальным: в результате слишком длительного угнетения народ, замкнувшись в себе, утратил веру и энергию. По словам Снельмана, финская нация была уже «на краю могилы» и это чувствовалось в его песнях. На столь мрачном фоне всякие юбилейные торжества выглядели скорее «пляской на похоронах».
Но как публицист и идеолог национального движения Снельман отнюдь не собирался опускать руки. В письме он заявлял: «Погибнуть вместе с нацией еще прилично, но умереть с нею смертью немощного раба недостойно человека. И если ты, делая выводы отсюда, попытаешься применить их ко мне, то вот мой совет: я уже выполню свою задачу, если сумею раструбить по свету все то, что прошептал тебе здесь, в частном письме».
С этим обещанием Снельман вернулся на родину, основал в 1844 году оппозиционную газету «Сайма», которая в условиях жестокой цензуры смогла просуществовать лишь три года, после чего была запрещена. Однако и за это время она успела сыграть важную роль в пробуждении общественного сознания. Задачу журналистики Снельман определял следующим образом: «События современности, развитие настоящего в будущее, те идеи, которые волнуют нашу эпоху и направляют ее к тому, чтобы она рано или поздно выполнила свою миссию и уступила место новой эпохе, — вот что должно быть предметом журналистики».
В газете «Сайма» изредка печатался и Лённрот, а когда она была в конце 1846 г. запрещена, Лённрот помог Снельману в регистрации нового периодического издания — «Литературной газеты для всеобщего гражданского просвещения». На всякий случай, для отвода глаз цензуры, газета была зарегистрирована на имя Лённрота, но издавал ее Снельман. Цензурные тиски ограничивали его возможности, в одном из писем он сетовал Лённроту: «Теперь мне здесь вообще трудно что-либо высказать публично — все пожирает до невообразимой степени эта варварская, тупоумная и надменная цензура».
Еще в упомянутом письме к Фр. Сигнеусу от 1840 г. Снельман выдвинул тезис, оказавшийся в национально-культурном, да и политическом отношении программным: «Финляндия ничего не может взять силой — в силе просвещения ее единственное спасение». Имелось в виду просвещение в самом широком смысле, включая все области культуры, образования, науки, социального воспитания граждан. Маленькой Финляндии с ее менее чем двухмиллионным тогда населением следовало, по убеждению Снельмана, избегать опрометчивого политического авантюризма и строить свое будущее, исходя из исторических условий. Именно через всемерное и всестороннее культурное развитие предстояло создавать современную финскую нацию.
Национально-культурная программа в широком смысле включала и научно-филологическую, и фольклорно-публикаторскую деятельность. И хотя Снельман говорил, что одними грамматиками нацию не построишь, но и без грамматик развитие языка и литературы было немыслимо.
Своего рода этапным культурно-историческим событием стало основание в 1831 г. Общества финской литературы, которому суждена была долгая жизнь — оно существует по настоящее время. Постепенно Общество превратилось в мощное комплексное научно-культурное учреждение с большими исследовательскими и издательскими возможностями. За полтора века своего существования оно издало тысячи книг, включая солидные фольклорные публикации. Именно Общество финской литературы издало и «Калевалу», и «Кантелетар», и 33-томное собрание народных рун, и академические сборники сказок, пословиц, загадок. Издается и фольклор ряда родственных финно-угорских народов. При Обществе существует богатый фольклорный архив, один из крупнейших в мире.
Учредительное заседание Общества финской литературы состоялось 16 февраля 1831 г., и протокол заседания, ставший культурно-историческим документом, вел Элиас Лённрот. Протокол написан на финском языке — для участников учредительного заседания это было принципиально важным. Основной целью Общества провозглашалось как раз всемерное содействие развитию литературного языка в соответствии с современными национально-культурными задачами.
О том, насколько существенным это было тогда, свидетельствуют также избранные Лённротом принципы публикации фольклора. Некоторые предлагали ему публиковать полевые записи рун со всеми диалектными особенностями исполнителей. Это казалось оппонентам Лённрота не только более научным, но и более демократичным в условиях, когда единые нормы литературного языка еще не вполне сложились и когда сами пишущие считали правомерным опираться на разные диалекты.
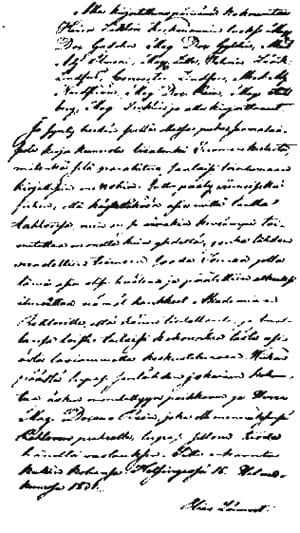
Написанный Э. Лённротом протокол учредительного заседания Общества финской литературы от 16 февраля 1831 г.
Но Лённрот с этим не согласился. В своих фольклорных публикациях он исходил из интересов развития общенационального языка и общенациональной роли фольклора. В этих условиях он отстаивал право на разумную языковую унификацию фольклорных текстов, если издание предназначалось для общего, а не для специального научного пользования.
Лённрот утверждал тем самым преемственность в развитии культуры, твердо убежденный в том, что на пустом месте, без прочного фундамента здание новой культуры не построить.
КАРЕЛИЯ И РУССКИЙ СЕВЕР ГЛАЗАМИ ЛЁННРОТА
Путешествуя по разным географическим и этническим регионам, Лённрот научился сравнивать их между собой по образу жизни людей и по ряду других признаков. И вполне естественно, что многое воспринималось путешественником в сравнении с его собственной родиной, Финляндией, служившей в этом случае для Лённрота как бы некой точкой отсчета, — так лучше фиксировались в его сознании все новые и новые наблюдения, так становились они более понятными и для читателя.
В путевых очерках, дневниках и письмах Лённрота многое описывается именно в сопоставительном плане. А сопоставлять у него было что и с чем. Лённрот побывал не только среди карельского населения Беломорской и Олонецкой Карелии, но и среди вепсов в волостях Петербургской и Вологодской губерний, среди Кольских саамов и тамошнего же русского населения, равно как и во многих уездах Архангельской губернии с русским по преимуществу населением. Он посетил и города, губернские и уездные центры: Петрозаводск, Кемь, Колу, Архангельск, Каргополь, Вытегру, Лодейное Поле. Городское население было в основном русским, хотя Лённроту встречались и жители иного происхождения.
В сравнительном плане Лённрот описывал быт разных этнических групп, устройство деревень, типы домов и их внутреннее убранство, хозяйственные занятия жителей, их одежду, обычаи, обряды. В очерках, дневниках и письмах Лённрота немало чисто этнографического материала, наряду с лингвистическим и фольклорным. Фольклорные записи велись по преимуществу в отдельных тетрадях.
Вышесказанное проявилось уже в путевых заметках 1832 г. при первом посещении Лённротом российской Карелии, границу которой он пересек в направлении Кухмо — Репола. Постепенно изменялся ландшафт, более редкими становились признаки человеческого жилья. Еще на финской стороне местность казалась полупустынной. «Еле приметные тропы бегут по болотам и по низким холмам, покрытым величественными и бескрайними нетронутыми лесами. В начале пути еще встречались кое-где одинокие усадьбы, а дальше, кроме единственной захудалой избенки, не было ни одного жилья». В двадцати километрах от границы Лённрот на всякий случай нанял проводника до первой российско-карельской деревни Колвасъярви. Пограничной стражи тогда ни с той, ни с другой стороны не было, но по прибытии в населенный пункт необходимо было предъявлять паспорт с визой по требованию властей либо самих жителей, которым о таком правиле было известно.
В Репола Лённрот столкнулся с первым существенным отличием местной жизни от финской: здесь жили по другому календарю, по старому стилю, тогда как его финский паспорте визой был оформлен по новому стилю. Хозяин дома, в котором Лённрот остановился, при проверке паспорта удовлетворился его объяснением. Поначалу, как признался потом сам хозяин, он принял пришельца за «отравителя колодцев» — слухам о мнимых причинах эпидемий верили и здесь.
Дальше Лённрот шел уже один без проводника. Обходя водные преграды, он заплутал в лесу, но случайно встретившиеся местные женщины помогли ему добраться до следующего селения. Так у него накапливались впечатления, уже можно было сравнивать, а кое-что ему было известно заранее из литературных источников. Местных православных карел Лённрот обычно называл в путевых заметках либо «русскими», либо «здешними финнами».
Чем же отличались они от финляндских финнов и что в карельском быту привлекало и что порой смущало Лённрота? Он наблюдал то и другое, ему хотелось быть объективным, многому он стремился найти объяснение, и его логику небезынтересно проследить.
Характеристику карельского быта в сравнении с финским Лённрот начал словами: «В некотором отношении их обычаи и обряды нравятся мне даже больше, чем то, что бытует у нас. Так, например, они лучше, чем в целом ряде мест у нас, следят за чистотой. У здешних финнов не встретишь жилья, чтобы не были вымыты полы, а подчас до такого блеска, как в любом господском доме. Избы здесь такие же, как в Саво, с дымоволоком на потолке, но в них больше окон, обычно восемь-десять, часть которых застеклена, а другая — без стекол. В избах Саво окон меньше, обычно четыре-шесть, но там они большего размера. У финнов, живущих в России, подклеть в избах выше, там хранится у них ручной жернов и прочая хозяйственная утварь. Жилые помещения всегда соединены со скотным двором, являющимся как бы продолжением крестьянского дома. От избы хлев отделен сенями, из которых ступени ведут вниз, в скотный двор».
И далее следуют лённротовские рассуждения по этому поводу: «Я говорю об этом не для того, чтобы перечеркнуть свои слова о чистоплотности людей, которую только что превозносил; наоборот, когда люди и животные находятся так близко, этот вопрос становится еще более важным. У нас жилые помещения располагаются всегда отдельно от скотного двора, и люди позволяют себе особо не заботиться о чистоте».
Современному читателю, бывавшему в Финляндии, подобный упрек Лённрота в недостатке чистоты в финских жилищах может показаться странным. Но Лённрот вел речь о крестьянском быте своего времени, причем рассуждал прежде всего как врач, сталкивавшийся с эпидемиями и заботившийся о санитарной гигиене людей. Любопытно само это сопоставление: то, что мог еще позволить себе финский крестьянин, чье жилье было отделено от скотного двора, не мог позволить карел, чья изба была под одной крышей с хлевом.
Своего рода «санитарный» подход был у Лённрота и к обычаям захоронения. «Хорошим обычаем у здешних финнов является то, что в каждой деревне покойников хоронят на своем деревенском кладбище. Наши же суеверия привели к тому, что покойника зачастую везут за сорок-пятьдесят километров, чтобы похоронить на кладбище у приходской церкви. Нетрудно заметить, сколь это обременительно и даже противоестественно. Неудобства этого обычая особенно ощутимы во время эпидемий. Когда года полтора тому назад были выделены отдельные кладбища для холерных, в ряде мест возникли беспорядки, связанные с тем, что народ не соглашался, чтобы кого-то из покойников хоронили в неосвященной земле <…> Ежели бы у нас, как у православных, в каждой деревне было свое кладбище, то все проблемы с холерными кладбищами были бы уже решены, не говоря о прочих».
С просветительско-рационалистическим — и в то же время историческим — подходом Лённрота к обычаям, обрядам и религиям мы еще не раз встретимся — это было чрезвычайно характерно для него. Лённрот был в общем-то религиозным человеком, можно сказать, правоверным христианином-лютеранином, но его религиозность не перерастала в иррациональный экстаз, она оставалась скорее этико-гуманистической и рационально-прагматической.
В карельских деревнях Лённрот вплотную столкнулся со старообрядцами, с их особым бытом и моральными нормами. «Здешние финны, — писал он в путевых заметках 1832 г., — считают гостеприимство добродетелью, а возможно, даже религиозным долгом, но сами же, к сожалению, нарушают его, примером чего является суеверный запрет не есть из миски, что стояла перед инаковерующим. Поэтому в поездку следует брать с собой свою чашку, которую потом можно выбросить. Правда, в некоторых домах имеются чашки и миски специально для инаковерующих и там всегда можно поесть». Но соседи могли осудить соседа за такую вольность. По наблюдениям Лённрота, люди были разные, в том числе по отношению к строгим нормам веры. Некоторые отличались крайней нетерпимостью. «Их религиозный фанатизм зашел так далеко, что даже лошадям, на которых наши крестьяне отправляются в Кемь, не позволяется пить из тех прорубей, из которых пьет их скотина. Если кому случается нарушить этот запрет и напоить лошадь, женщины тут же окружают его и начинают орать во всю глотку: «Опоганили нашу прорубь!» Один из наших крестьян, по-моему, удачно ответил женщинам: «Пусть лошадь пьет, — сказал он, — все лошади одной веры, что наши, что ваши».
Но подобный фанатизм и нетерпимость все же не были всеобщими. Среди раскольников были разные течения и разногласия в вопросах веры, а иногда проявлялся и некоторый скептицизм. Будучи в деревнях в районе Кестеньги, где он посетил и раскольнические скиты, Лённрот задал одному из жителей следующий вопрос: «А сколько всего богов?» — на что последовал неожиданный ответ-шутка: «А кто их считал, как-то раз семь возов из Москвы в Питер доставили». Сам по себе вопрос был обычным в устах исследователей-этнографов и фольклористов, когда они хотели выяснить, в какой степени жители придерживались еще языческого многобожия и в какой церковного единобожия, но ответ был шутлив и ироничен. Лённрот любил шутку, в его путевых заметках и письмах немало забавных подробностей. Грот с удовольствием отметил эту черту в письме к Лённроту от 29 марта 1843 г.: «Читал я твои письма из Архангельской губернии и вообще с дороги. Они очень забавны и показывают в тебе много юмору».
Из наблюдений Лённрота следует, что тогдашняя граница между Финляндией и российской Карелией не изолировала людей настолько, чтобы исключить всякие контакты, в том числе в вопросах веры. В Финляндии были православные приходы со своими священниками, сотни карельских коробейников ежегодно ездили в Финляндию. В пограничных российско-карельских деревнях наблюдался, по свидетельству Лённрота, и некоторый интерес к лютеранству. «Народ здесь очень религиозный, — писал он, — но все же не настолько, чтобы презирать наше вероисповедание. Когда наши священники проводят в деревнях по финскую сторону границы проверки по чтению катехизиса и объясняют Библию, многие крестьяне из ближних русских деревень обычно приходят их послушать. Некоторые, я слышал, говорили, что им больше нравится, как объясняют слово Божье наши священники, чем свои».
Отчасти это могло происходить именно потому, что лютеранская церковь приучала людей к грамоте. В карельских деревнях грамотных крестьян, по представлению Лённрота, было мало, разве что один человек из ста. В каждом приходе (волости) полагался священник, но в Вуоккиниеми его не было. Приезжий священник бывал раз-другой в год, совершал спешно обряды — крестил, венчал, отпевал. О продвижении грамотности среди крестьян в этих условиях говорить было трудно, к тому же у жителей не было религиозных книг. «А учиться они безусловно хотят, — считал Лённрот. — Если бы сочли грамотность полезной, то ее развитию можно было бы способствовать, нанимая учителей из числа православных финнов в приходах Иломантси и Липери. В обоих приходах крестьяне свободно читают финские книги и могли бы, не испытывая особых затруднений, обучить этому своих единоверцев».
Одной из черт рационалистической натуры Лённрота было то, что он не испытывал особого пиетета к священнослужителям — ни к лютеранским, ни к православным. Среди его знакомых были пасторы, с которыми он поддерживал деловые и дружеские отношения, но скорее светского характера. Впрочем, о Лённроте рассказывают, что поскольку он уже в отрочестве был начитан в церковных книгах, местные прихожане в Самматти иногда просили его прочесть проповедь в церкви, в чем он не отказывал. Такое, по рассказам, случалось и в позднем возрасте, когда Лённрот жил на профессорской пенсии в Самматти. Неизвестно, о чем проповедовал Лённрот в церкви, — скорее всего о нормах христианской морали и о более или менее земных людских заботах. Во всяком случае его письма к знакомым священникам были обычно «мирскими» и не затрагивали непосредственно вопросов веры; в них шла речь о каких-нибудь практических делах, например, о просветительной деятельности, об издании газет и т. д.
Была, правда, одна тема, обязывавшая Лённрота касаться вопросов религии, хотя тоже больше со стороны практической жизни. Тема эта — уже упоминавшееся пиетистское религиозное течение внутри лютеранства. К пиетизму Лённрот относился отрицательно, причем еще и как врач, поскольку ему приходилось сталкиваться со случаями, когда крайние формы изнуряющей религиозной экзальтации и фанатизма приводили к психическим расстройствам и даже к гибели людей. В области духовной пиетисты осуждали все светское образование, просвещение и даже народную культуру, якобы противопоказанные истинному христианству.
В 1835 г. Лённрот выступил в газете «Гельсингфорс Моргонблад» со статьей о пиетистском сектантстве в округе Кайнуу, которая вызвала ответную полемику со стороны пиетистских священников. Лённрота обвинили в «безбожии», в том числе за его просветительную и фольклорно-публикаторскую деятельность; он вынужден был напечатать в своем журнале «Мехиляйнен» статью-протест пастора-пиетиста Ю. Ф. Берга, который вступил с ним также в частную переписку. Из двух ответных писем Лённрота к Бергу явствует, что ему необходимо было как-то определиться в своих собственных религиозных убеждениях. В письмах Лённрот упоминал о своем прежнем «безверии» (имелись в виду сомнения в некоторых религиозных догматах, например, в воскрешении из мертвых), допускал мысль о возможной односторонности своих суждений о пиетизме и выражал надежду, что ему удастся как-то приблизиться к Богу, а молодым пиетистским священникам — придать движению более приемлемое направление.
Сохранились кое-какие сведения о том, что Лённрот порой сам думал стать священником, но его друг, доктор Ф. Ю. Раббе, отговорил его от такого шага. Не исключено, что Лённроту больше из чисто практических соображений хотелось сменить слишком обременительную должность окружного врача. Но можно допустить и то, что у Лённрота были свои представления о роли духовного пастыря и что именно это соображение являлось для него в данном случае более существенным.
Но пастором Лённрот не стал. И хотя среди исследователей его биографии, особенно церковных авторов, принято считать, что после начального периода «безверия» Лённрот постепенно обрел некую умиротворенность в отношениях с религией и церковью, однако при этом недостаточно учитывается, на наш взгляд, один существенный момент.
Оставаясь христианином, Лённрот неизменно был всегда озабочен тем, чтобы религиозное чувство не приходило в противоречие и противостояние с практической деятельностью людей, с общественно-культурным развитием, с сознанием социальной справедливости. По убеждению Лённрота, само религиозное чувство должно было исторически меняться и не могло не меняться. В связи с известной книгой Д. Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса», вызвавшей общеевропейский резонанс и обширную полемику, Лённрот писал в одном из писем в 1848 г., что Библию не следует понимать слишком буквально, что в ней важна «не буква, а дух», что современное рационалистическое сознание выросло «из прежних одежд» и воспринимает библейские чудеса не дословно, а как образное иносказание и поэзию.
Добавим к этому еще несколько сугубо биографических фактов. Случилось так, что когда Лённрот летом 1849 г. обзавелся наконец семьей, женившись на Марии Пиппониус, которая была девятнадцатью годами моложе его, выяснилось, что по своим религиозным убеждениям она была пиетисткой. Это была старательная, трудолюбивая, хозяйственная молодая женщина, но в своем строгом благочестии не склонная ни к веселому смеху, ни к шуткам, ни к юмору. Лённрот мирно ладил с нею в семье, не стеснял ее религиозных чувств, но на пиетистские собрания посоветовал ей не ходить, опасаясь возможных последствий слишком экзальтированных коллективных богослужений.
И еще одна любопытная биографическая деталь, связанная с пиетизмом, хотя и не столь серьезным образом. В 1861 г. Лённрот в качестве председателя Общества финской литературы произнес речь и закончил ее следующими словами, в которых была и шутка, и нечто более существенное. «Пиетистских проповедников, — сказал в заключение Лённрот, — часто упрекают за то, что они годами могут читать одну и ту же проповедь о вере и праведном пути, считая это самым важным для обретения вечности небесной. У меня же своя одна-единственная проповедь — о финском языке и литературе, ибо не знаю ничего более важного для земной будущности Финляндии».
В этом весь Лённрот — и с его земными заботами, и с его христианскими этическими идеалами.
Аналогичным было и отношение Лённрота к православию и к православным священнослужителям — житейские и социальные вопросы не заслонялись в его сознании неким безусловным благочестием и почитанием. Сама святость церковных святых иногда ставилась Лённротом под сомнение. В феврале 1837 г. он был в Керети и прослышал о мощах святого Варлаама в местной церкви. «Рассказывают, что этот Варлаам, совершив какой-то тяжкий грех — убийство, ограбление или что-то подобное, сделался набожным и впоследствии слыл как святой <…> Ныне Варлаам стал настолько известным, что когда три года назад архангельский архиерей захотел посмотреть на его мощи, он был так потрясен, что чуть не лишился чувств. Но сама память о Варлааме безнравственна».
Тем более Лённрот мог относиться критически к священнослужителям, когда дело касалось непосредственно народной жизни, которую он пристально наблюдал. Побывав в апреле 1835 г. в карельском селе Ругозере, Лённрот сделал в дневнике следующую запись: «Несколько лет назад священников в России наделяли землей. Но из них редко кто годился в хлебопашцы, а наемная сила обходится дорого — плата за работника сто рублей в год. Поэтому они отдают землю в аренду и за это получают третью часть урожая. Когда попов наделили землей, им отводили лучшие поля и луга, не спрашивая согласия тех, кто раньше обрабатывал эти угодья. Из-за этого в ряде мест некогда богатые крестьяне обеднели. Но у них нет прав жаловаться на несправедливое отношение к ним, ведь вся земля принадлежит царю, а за ними закрепляется лишь право на возделывание земли, но не на владение ею».
В отдаленные карельские деревни редко наведывались и гражданские чиновники, из которых Лённрот упоминал исправника, в чьи обязанности входило взимание податей и разрешение судебных тяжб. Не без удивления Лённрот сообщал об особенностях налоговой системы у соседей — о подушной подати, взимавшейся по числу мужчин в каждом крестьянском подворье, включая младенцев, стариков и даже усопших, поскольку ревизские списки составлялись раз в двадцать лет, а за столь продолжительное время многое в реальной жизни менялось.
Внимание Лённрота привлекло и то, что чиновники во время своих служебных поездок жили за счет местного населения. «Крестьяне обязаны бесплатно перевозить их, а также всю их свиту, сколько бы их ни было <…> Вообще-то в народе недовольны этим поведением должностных лиц —не знаю, законным или незаконным, — крестьяне завидуют иному положению крестьян у нас, где не приходится бесплатно кормить и возить чиновников».
В своих наблюдениях и записках Лённрот довольно часто касался существенных, с его точки зрения, различий хозяйственного уклада финского крестьянства, с одной стороны, и российско-карельского, вепсского и северно-русского, с другой. Отсюда Лённрот во многом выводил и различия в складе национального характера у представителей соответствующих народов и этнических групп. Поскольку Лённрот придавал данному кругу вопросов весьма важное значение, остановимся на этом подробнее.
Одна из основных идей, проходящих в наблюдениях и рассуждениях Лённрота, состоит в том, что финнов он считал более земледельческим и скотоводческим народом по сравнению с восточными соседями, среди которых относительно большое место занимали охота, рыболовство и отхожие промыслы (наряду с менее развитым хлебопашеством и скотоводством). Замечал Лённрот и отличия в землепользовании: в России было общинное землепользование, крестьянин не имел постоянного участка земли в личной собственности, происходили периодические земельные переделы. Кроме того, в южной части европейского Севера (в районе Вытегры, Лодейного Поля) Лённрот столкнулся с крепостничеством.
Севернокарельскому быту были присущи свои отличия. В волости Вуоккиниеми Беломорской Карелии Лённрот наблюдал коробейничество, и его поразил сам масштаб этого явления. Вот как это описано в его путевых заметках 1833 г.:
«В Кивиярви я нашел верховую лошадь до Вуоккиниеми, что в трех милях отсюда (финская миля — около 10 километров. — Э. К.). В деревне до семидесяти домов, расположенных довольно кучно <…> Пройдя от Кивиярви около двух миль, мы вышли на берег озера под названием Кёуняс. Здесь мы увидели толпу народа, в которой одни причитывали в голос, другие потихоньку всхлипывали, третьи еще как-то выражали свою печаль. Это была группа молодых парней и мужчин из Вуоккиниеми в сопровождении женщин. У парней за плечами были мешки с товаром, они направлялись за границу, в Финляндию, а провожавшие их родственники отсюда возвращались домой. Предстояла долгая разлука, по крайней мере на целую зиму, если не навсегда. Матери оплакивали сыновей, жены — мужей, девушки — братьев, а иные, возможно, и женихов. Немало лишений и бед испытают они в пути, прежде чем через полгода снова вернутся в родные края. Возвратившиеся недавно из Финляндии мужчины рассказывали, что многие места там охвачены эпидемией. Случись кому из них заболеть, кто будет ухаживать? И как прожить следующий год, как уплатить выкуп, если кто-нибудь из них вдруг попадет в лапы ленсмана или фискала? Примерно в таком духе шел разговор при прощании».
Лённрот имел в виду, что коробейничество запрещалось финскими властями как форма контрабандной торговли. Да и российские таможенные чиновники, по его свидетельству, следили строго за провозимыми из Финляндии товарами, в особенности это касалось кофе, чая, табака и алкоголя. Лённрот рассказывал о случае, когда финский повозочный отказался везти его через границу без собственного предварительного досмотра, поскольку опасался, что российская таможня может конфисковать не только запретные товары, но в наказание и лошадь.
Впрочем, таможенные чиновники были только в определенных пограничных селениях у дорог, тогда как коробейники пересекали границу глухими лесными тропами. Товар их состоял из всякой мелочи — женских платков, лент, иголок и т. д. Если у них и были лошади, подвозившие их груз до границы, то пользовались они волокушами. По описанию Лённрота это выглядело так: «От Кивиярви до Кёунясъярви вряд ли вообще можно проехать на обычной колесной повозке, поэтому придумано другое приспособление: на двух шестах длиной пять-шесть локтей, перехваченных параллельными перекладинами, установлен короб. Концы шестов тянутся по земле, остальная же часть и короб приподняты над землей. По дороге нам встретилось несколько таких волокуш. Владельцы их были из Ухтуа — большого и богатого села, которое находится в четырех милях севернее погоста Вуоккиниеми. Мужиков, по моим подсчетам, было около пятидесяти, а возков не более десяти; на несколько человек была одна повозка, иные несли мешки на себе. Этой осенью четыреста человек из одной только волости Вуоккиниеми вынуждены были отправиться в Финляндию торговать вразнос. Поскольку ни один из них не возвращается без прибыли, составляющей по меньшей мере около ста рублей, а у некоторых и до двух тысяч, то можно представить, что за одну только зиму они вывезут из Финляндии сто тысяч рублей ассигнациями. Многие занимаются меновой торговлей, обменивая свой товар на меха, полотно, женские полосатые юбки и т. д. Меха они большей частью сбывают на ярмарке в Каяни, а полотно, юбки и прочее — в Архангельской губернии».
В 1842 г., будучи в Архангельске, Лённрот увидел на городском рынке целые тюки финских крестьянских юбок. И когда он пошутил, что скоро финским девушкам юбок не останется, ему ответили: «В нынешнем году еще немного, а вот в прошлом году их было раза в два больше». Доставлялось все это, по словам Лённрота, коробейниками волости Вуоккиниеми. Они ходили с товарами не только в Финляндию, но и в Ингерманландию и Эстонию, а закупали товары в Архангельске и других русских городах, даже в Москве.
Приведенная Лённротом цифра производит впечатление: если из одной только редконаселенной волости Вуоккиниеми коробейничать отправлялось по четыреста мужчин в год, это было немало. А по всей Карелии коробейничеством занималось гораздо больше людей — до нескольких тысяч. И для Лённрота дело было не только в ревнивом отношении к экономическим интересам Финляндии, но прежде всего в разумном устройстве самой крестьянской жизни, в определении того, что в ней являлось основным и что побочным.
Современные финские исследователи, изучившие историю пограничной разносной торговли между Карелией и Финляндией, во многом подтверждают трезвые наблюдения и суждения Лённрота тех лет. Как считают М. Наакка-Корхонен, автор книги о беломорско-карельских коробейниках (1988), и Р. Ранта, автор статьи на ту же тему (1994), для жителей Вуоккиниеми, Ухты, Контокки, Кестеньги разносная торговля была в ту пору едва ли не главным источником средств к существованию, в ущерб другим хозяйственным занятиям. В какой-то мере пограничная торговля практиковалась местными жителями и раньше, но с присоединением Финляндии к России в 1809 г. для нее наступил «золотой век». Обычно в октябре подавляющее большинство деревенских мужчин — от подростков до стариков — отправлялись на всю зиму в соседние финские провинции, поделенные между коробейниками на определенные «торговые зоны», где каждый старался иметь своих постоянных покупателей, свои места для ночлега, надежные способы передвижения по рекам и озерам с арендой или покупкой лодок и т. д. Коробейничество получало некий социальный статус, становилось профессией, передававшейся от отца к сыну. Крестьянское хозяйство в деревнях оставалось больше на плечах женщин и совсем уж престарелых мужчин. После тяжелой зимы вернувшиеся коробейники считали себя вправе немного отдохнуть дома, а многие из них и летом были в отлучке, добывая в русских городах товар подешевле для предстоящей зимы. В Финляндии коробейников при случае штрафовали, принимались более строгие законы против контрабандной торговли, и тогда в ней наступал временный спад и уменьшались доходы. Как писал архангельский губернатор в 1871 г. российскому министерству внутренних дел, беломорско-карельские деревни существенно обеднели в связи с введенным финскими властями запретом на разносную торговлю. Главная причина была в неразвитости иных форм хозяйственной деятельности, в первую очередь хлебопашества и скотоводства.
Лённрот наблюдал это уже в первые свои поездки и не мог оставить без внимания в своих путевых очерках. Он был убежден в том, что главное для крестьянина все-таки — земледелие. И для страны, государства, нации — тоже главное. Это касалось, с его точки зрения, и финнов, и карел, и вепсов, и русских — любого народа. Между тем еще в очерке 1832 г. он писал о Репола: «Земледелию здесь, по-видимому, уделяется еще меньше внимания, чем у наших финнов. Поля обычно маленькие, да и покосы не очень хорошие. Поэтому во многих хозяйствах стада немногочисленны: обычно две-три коровы да лошаденка. Молоко у них не является столь важным продуктом питания, как у нас. К тому же три дня в неделю — в воскресенье, среду и пятницу — они молочной пищи не едят, в эти дни соблюдается своего рода пост».
Другим побочным занятием, отвлекавшим крестьян от земледелия и скотоводства, было рыболовство, довольно подробно описанное Лённротом. Имелось в виду морское рыболовство на Мурманском побережье Кольского полуострова, куда ранней весной на все лето отправлялись массы людей — саамов, карел, русских с северных уездов. В описании Лённрота это было впечатляющее и трудное шествие к морю, подчас с трагическим исходом. Зимой и весной 1842 г. Лённрот вместе с М. А. Кастреном побывал на Кольском полуострове в целях изучения саамского языка и все видел собственными глазами.
Рыбаков называли «мурманами», и это были люди, которые, по словам Лённрота, «каждый год из деревень между Кандалакшей и Онегой (река и уездный центр на Онежском берегу Белого моря. — Э. К.) и из более отдаленных русских деревень и городов, а также из карельских деревень Олонецкой и Архангельской губерний в конце марта — начале апреля тысячами устремляются на Мурманское побережье Ледовитого океана, заполняя дорогу к морю беспрестанно движущимися и лишь кое-где прерывающимися вереницами <…> Уже в Коле по всему нашему пути и на всех постоялых дворах до самого Разнаволока мы встречали мурманов. Причем это были запоздавшие, выехавшие позже других, основная же часть уже раньше добралась до места. Иные из них везли свой скарб в санях типа ахкиво (кережи), в которых были запряжены большие собаки, и один Бог ведает, из какой дали они ехали; другие нанимали оленей, но большинство шло пешком, таща за собой так называемые ветури — легкие санки наподобие ахкиво. Похоже, многие из них были в самом жалком положении: припасы, взятые из дому, кончились, а денег на еду не было. Предвидя предстоящие лишения, кое-кто из них прихватил с собой из дому всякий мелочный товар: женские сороки (повойники), ленты для волос, кусочки веревки и лоскутки ткани, которые они надеялись продать лопарям, но даже лопари ни во что не ставили такие вещи. Не представляю, как они сумели добраться до побережья, однако хочу надеяться, что это им удалось. В одном месте я повстречал двух братьев, один из которых внезапно заболел воспалением легких, и это, как мне казалось, могло кончиться весьма печально. К счастью, у другого было столько денег, что он мог по крайней мере на несколько перегонов нанять оленя, впрячь его в кережу и уложить поудобнее больного и укутать его. Но когда у них окончатся деньги, брату не останется ничего другого, как впрячься самому в кережку и тащить ее до побережья, чтобы больной умер там, если не скончается по дороге».
Сочувствуя несчастным, Лённрот вместе с тем задавал вновь вопрос: насколько разумным было крестьянину пускаться в столь трудные и опасные странствия, если все лето его поля и покосы оставались заброшенными? Заработанные рыбной ловлей, деньги он должен был все равно потратить на покупку хлеба на зиму — прибыль оборачивалась убытком. По мнению Лённрота, не следовало ради ничтожного заработка поступаться «самым надежным источником крестьянского дохода — земледелием».
Для сравнения Лённрот приводил пример: «В Финляндии земледелие распространено вплоть до 69 градуса северной широты, включая приход Инари в Лапландии, а на морском побережье (на берегу Кандалакшского залива) в Архангельской губернии — не выше 66 градусов к северу. Там в пятнадцати верстах от Керети в карельской деревушке Нилмиярви можно увидеть последние обработанные поля, а на побережье в русских деревнях южнее, наверное, на целый градус — к югу от города Кемь. Что же представляет собой земледелие в этой местности?
Тогда как финский крестьянин намного северней, где, по всей вероятности, и почва хуже, сеет ежегодно по пять-шесть бочек зерна, здесь весьма довольны, если посеют бочку. Так же три-четыре коровы здесь — большое стадо, тогда как в Финляндии стадо в 15-20 коров считается средним. Причину столь бедственного положения, даже полной нищеты в области земледелия у здешних карел и русских пусть выясняет тот, у кого больше старания».
Из самого характера наблюдений Лённрота порой создается впечатление, словно он специально с особым пристрастием присматривался именно к хозяйственным сторонам местной крестьянской жизни. Не только к избам и домашней утвари, к чистоте полов и способам приготовления пищи, но и к лугам,, травам и стадам, к состоянию полей и хлебов. По прибытии в Каргополь Лённрот записывает свои впечатления на всем протяжении пути: «Если не считать двух первых перегонов, все сто пятьдесят верст начиная от Онеги не увидишь ни гор, ни холмов, лишь луга по обе стороны реки да деревни, стоящие в нескольких верстах друг от друга. Травы на лугах хорошие, даже дорога поросла травой, скрыв следы колеи. Кое-где виднеются скирды сена, оставшиеся еще с прошлого года. Но даже при таком обилии кормов крестьяне содержат не более восьми-десяти коров и двух лошадей на один двор». По нынешним временам это может показаться почти фантастическим, но пристрастному глазу Лённрота в июле 1842 г. этого было мало. На своей родине он привык к тому, что крестьяне содержали вдвое больше скота.
И далее: «Поля были просторные и обещали хороший урожай. Ни на одном поле я не увидел как следует сделанных канав». В Финляндии осушительные канавы на полях и лугах, особенно в низменных болотистых местах, были тогда острейшей проблемой, крестьян учили с помощью осушительных работ бороться с ночными заморозками.
В другом месте Лённрот заметил, что коров в русских деревнях пасли общим стадом на общем выгоне с одним общим деревенским пастухом, тогда как финский крестьянин содержал и пас свой скот отдельно, поскольку устройство финских деревень и расположение усадеб были совсем иными. В русских деревнях, которые Лённрот проехал, не разводили свиней, и в этом он увидел объяснение, почему изгороди вокруг полей были ветхими, — для свиней они не были бы преградой. А в путевых заметках, описывая переезд из Вытегры в Лодейное Поле, Лённрот после сведений о местных посевных культурах как бы мимоходом сообщает: «Скотоводство здесь, как и по берегам Свири, ненамного продвинулось со времен Адама».
В некоторых северных деревнях Беломорской Карелии Лённрот наблюдал крайнюю нищету, и с нею, по Лённроту, следовало бороться упорным земледельческим трудом. Если земледелие хорошо налажено и неуклонно прогрессирует, все остальное приложится и будет процветать. Именно в это время — под впечатлением поездки в Беломорскую Карелию голодной зимой 1836/37 гг. — Лённрот настойчиво утверждал, что тамошним жителям лучше было отказаться от коробейничества, которое только отвлекало их от ведения крестьянского хозяйства. Лённрот был убежден, что и в хозяйственном, и в моральном отношении поголовное увлечение сельских жителей куплей-продажей ущербно для самой народной жизни. Если все, писал он, будут покупать-продавать, то некому будет производить чего-либо, и это неизбежно приведет к общему обнищанию. И если от коробейничества и была какая-то польза, считал Лённрот, то сводилась она к тому, что частые посещения Финляндии до некоторой степени приобщали коробейников к просвещению и книжной культуре. Просвещение, заключал Лённрот, следовало развивать, «но от коробейничества надо отказаться. И да здравствует земледелие, скотоводство и ремесла!»
Это прославление земледельческого труда весьма характерно для Лённрота, и оно было присуще всей финской литературе XIX — первой половины XX в. Еще народная пословица утверждала, что крестьянин всех кормит — от короля до мыши. Писатель-просветитель Я. Ютейни, предшественник Лённрота, устами пахаря водной из своих пьес заявлял, что «крестьянское сословие всему государству основа, и только глупцы до сих пор презирают его, хотя хлеб-то все едят». Для поэта Э. Лейно в начале XX в. символом Финляндии был плуг. И даже в середине нашего столетия половина населения страны была занята еще в сельском хозяйстве — ускоренная индустриализация началась с 1960-х гг. и к настоящему времени сократила долю занятых в земледелии и лесном хозяйстве до десяти процентов.
Приведенный экскурс помогает лучше понять место Лённрота в общей культурной традиции и ее эволюции. В эпоху Лённрота и в самой Финляндии, особенно в восточных ее районах, не вполне еще исторически решенным оставался вопрос в пользу развития современного земледельческо-скотоводческого аграрного хозяйства — значение рыболовства и охоты было еще существенным, примитивное подсечное земледелие еще не везде уступило место усовершенствованному полеводству. Аграрный пафос Лённрота как раз призывал к такому усовершенствованию.
Любопытно, что с преимущественными хозяйственными занятиями населения в ту пору связывали и особенности народного характера. У Лённрота это проявляется достаточно определенно, причем его суждения на эту тему лежат опять-таки в русле традиции. Сравнивались и разные народы, и жители разных регионов внутри одной страны. Это касалось и этнографической, и художественной литературы, особенно некоторых произведений Ю. Л. Рунеберга, входившего тогда в славу первого поэта Финляндии. В 1832 г. Рунеберг опубликовал очерк под названием «Несколько слов о природе, народном характере и быте жителей волости Саариярви», в котором финское население глубинной Финляндии сравнивалось со шведским преимущественно населением морского побережья. В том же году вышла упомянутая и Лённротом поэма Рунеберга «Охотники на лосей», в которой впервые в финской литературе изображались карельские коробейники в сопоставлении с национальными типами финских крестьян. Силой своего поэтического таланта Рунеберг сделал эту тему традиционной. Финны представлялись от природы более степенными, немногословными, замкнутыми и медлительными, склонными при своем упорном трудолюбии к углубленному внутреннему самосозерцанию, тогда как в соседних карелах, особенно в странствующих коробейниках, видели бывалых, общительных, подвижных, как бы не вполне оседлых и даже несколько беззаботных людей. Отчасти эти литературно опосредованные представления повлияли и на Лённрота, хотя он опирался и на живые наблюдения. Вернее будет сказать, что под влиянием литературы живые наблюдения еще больше поразили его. Как выразился Лённрот в одном из писем после первых встреч с российскими карелами, «эти люди столь отличаются в движениях и разговорах, что можно подумать, что они относятся к совершенно отличной от финнов нации. Одежда их резко отличается от финской», — и дальше подробно описывались особенности мужской и женской одежды с добавлением: «Девушек здесь обычно выдают замуж очень рано, зачастую в возрасте тринадцати-четырнадцати лет, вследствие чего они стареют раньше времени». В своих заметках Лённрот подчеркивал, что по наблюдениям над жителями только одной местности еще нельзя было судить о всем народе.
Упомянем и о том, что коробейничество у карел Лённрот отчасти связывал с предполагаемым их историческим происхождением. Он считал их (и это отразилось в предисловии к «Калевале») потомками жителей древней Биармии (Бьярмланда, Перми), полулегендарной страны, о которой есть довольно туманные упоминания в скандинавских и русских источниках. Биармийцы, или пермь, занимались торговлей со скандинавами, и с этой «торговой жилкой» и было предположительно связано последующее коробейничество. От биармийцев же карелы, по Лённроту, могли унаследовать некоторые общинные формы народной жизни.
Касаясь русского населения, Лённрот приходил к выводу, что северяне-поморы по своему складу отличались от русских же в соседних районах к югу. Он связывал это опять-таки с отличиями в природных условиях и занятиях населения. Северяне занимались больше морским промыслом, а южные соседи — земледелием. Лённрот писал по этому поводу: «Постоянное наблюдение смерти, пусть это касается только уничтожения рыб и тюленей, сделали характер беломорского рыбака жестким, а торговля, которой он занимался помимо того, заставляла его заботиться о своей выгоде. Земледелие же, напротив, смягчало характеры людей, живущих во внутренних частях страны, и поскольку им не приходится покупать свой хлеб, они не столь заботливо подсчитывают копейки за каждый кусок. Это влияние различных условий жизни на склад людей, видимо, началось со времен Каина и Авеля и в какой-то мере наблюдается до сего дня. Повсеместно землепашцы составляют лучшую и наиболее порядочную часть населения, это занятие благотворно влияет на национальный характер, но мне кажется, что государство никогда не приложит достаточно усилий, чтобы должным образом поддержать крестьян, обрабатывающих землю. А ведь земледелие и скотоводство нуждаются в поощрении и поддержке государства, остальные же способы существования — только лишь в хорошем к ним отношении. Если ствол дерева здоров, то и ветви растут без особого ухода, и все дерево имеет цветущий вид, радует глаз и предоставляет тень путнику».
Прекрасно сказано, и впредь читатель еще не раз сможет убедиться в точности метафорического языка Лённрота. Недаром он так восхищался народным языком, который, по его наблюдениям, наполовину состоял из метких пословиц и поговорок.
Языковые проблемы занимали в поездках Лённрота исключительно важное место. Наряду с народным бытом это было главнейшей темой в его путевых заметках.
Во-первых, изучение народных языков и диалектов — финских, карельских, вепсских, саамских, эстонских — было его задачей как специалиста-филолога. Он вел обширную словарную работу, намеревался написать сравнительную грамматику прибалтийско-финских языков, собирался поехать также к коми-зырянам, хотя это и не осуществилось.
И, во-вторых, Лённрот сам должен был в своих путешествиях общаться с разноязычным населением — уже не только как специалист, но и как собеседник. В путевых заметках Лённрота есть примечательное место, где он рассказывает о том, какое языковое испытание ему довелось однажды выдержать. В дневниковой записи, сделанной в заполярной Коле 15 февраля 1837 г., читаем:
«Я оказался прямо-таки посреди настоящего смешания языков, почти такого же, какое можно себе представить после падения Вавилонской башни. Уже в Керети на мою долю досталось с лихвою, когда приходилось общаться и с русскими, и с немцами одновременно. Но там я все же кое-как справился с этим, не умея еще говорить по-русски, но припоминая немецкие слова, которые я когда-то усвоил, читая книги, однако говорить по-немецки мне раньше почти не приходилось. В Кандалакше я впервые повстречался с лопарями, с которыми я общался так же, как и с русскими в Керети, то есть не разговаривая с ними вообще. Самые необходимые слова я находил в русском разговорнике, ими и обходился. Но здесь, в Коле, я заговорил по-русски. И в то же время с женой градоначальника мы порою беседовали по-немецки, а с доктором — по-латыни, и он, стыдно признаться, владел этим языком лучше и свободнее, чем я. Кроме того, с крестьянами я порою говорю по-фински. Но, за редкими исключениями, я нигде не могу применить знания шведского языка, второго почти родного для меня языка. Иногда разговариваю на нем с хозяином, а он, в свое время заучивший кое-какие норвежские слова, нет-нет да и вставит их в свою речь. Так что, если считать и шведский, то выходит, что я одновременно вынужден объясняться на пяти языках — а этого уже предостаточно. Но не следует думать, что я упоминаю об этом ради хвастовства, наоборот, должен признаться, что я не владею в совершенстве ни одним из этих языков; ведь есть большая разница в том, умеешь ли ты сносно объясняться и писать на каком-то языке или владеешь им свободно. Вполне естественно, что при таком смешании языков порой случались смешные недоразумения <…> Кроме уже упомянутых языков, я мог бы общаться по-французски, знай я его получше, с женой исправника, а со многими жителями — по-лопарски. Выходит, всего на семи языках, а этого более чем достаточно для такого маленького местечка».
И как специалист-языковед, и как человек гуманистических взглядов, Лённрот был внимателен к тем процессам, которые происходили с национальными языками обследуемых народностей. Он наблюдал разные стадии языковой ассимиляции, разные формы двуязычия, равно как и процессы постепенного забывания родного языка. Для науки наблюдения Лённрота весьма ценны, и в то же время они по-человечески горестны. В особенности это касается его встреч с вепсами и саамами. В описаниях Лённрота запечатлелась и глубокая любовь, и пронзительная боль.
В августе 1842 г. Лённрот остановился на некоторое время среди вепсов тогдашней Исаевской волости недалеко от Вытегры. Его целью было изучение местного языка. Народ, по его словам, отличался исключительной доброжелательностью и гостеприимством, его обильно и вкусно кормили, причем отказывались от всякой платы, которую Лённрот все-таки умудрялся им вручать, хотя и не столь большую, какую требовали в других местах. Лённрота часто — даже слишком часто, по его словам, — приглашали на разные деревенские праздники, которых было много и в которых его обязывали участвовать, что называется, «на равных». Он писал по этому поводу доктору Ф. Ю. Раббе: «И всюду меня заставляли есть и пить чай, так что для меня веселье оборачивалось большим мучением. Но и это еще не все: за хорошее угощение я со своей стороны должен был, выражая свою признательность, играть на флейте. Им отнюдь не надоедало слушать, они просили поиграть еще и еще. Бесчисленное множество раз я жалел, что взял с собой этот злополучный инструмент, и не раз готов был бросить его в угол». Но и эти слова были от доброты и признательности за настоящее человеческое общение. Недаром Лённрот писал по поводу вепсского гостеприимства: «Мне часто припоминаются слова последнего возницы о вепсах: «Простой народ». Насколько лучше эта простота, чем то умение жить, при котором без оплаты не выпросишь огня для трубки».
Но вепсский язык уже тогда катастрофически забывался, причем сами носители языка могли этого еще не вполне осознавать. В одной из деревень Лённрот договорился со священником-вепсом, чтобы тот давал ему уроки вепсского языка. Но вскоре выяснилось, что вепсский он знал уже плохо и вообще оказался для своего сана не слишком сведущим человеком. По словам Лённрота, священник был чрезвычайно удивлен тем, что, кроме русских книг, существовали книги и на других языках. Быть может, дело было как раз в том, что именно на вепсском языке книг не существовало — отсюда и удивление, что бывают не только русские книги.
Здесь было нечто аналогичное с другим эпизодом, о котором рассказал Лённрот в связи с изучением саамского языка. Он попросил саама проспрягать на его родном диалекте глагол «читать», но из этого ничего не получилось по весьма характерной причине: когда Лённрот просил информанта сказать «я читаю» и когда он обращался к нему с подсказкой «ты читаешь», информант отвечал, что он как раз не читает, не умеет читать. Хотя и на другом уровне, чем в эпизоде со священником-вепсом (Лённрот описал его как простого крестьянина), но и в случае с саамом дело упиралось в степень грамотности, в наличие или отсутствие у народа собственного письменного языка.
Как писал Лённрот в связи с вепсами, «отсутствие письменности и официального использования языка ускоряет его гибель, подобно тому как отсутствие фундамента и угловых камней сказывается на прочности дома. Основу языка составляет литература, которая способствует его длительному сохранению, и если она не сумеет предотвратить исчезновение языка, то все же сохранит в себе его прекрасные приметы».
Хорошего учителя и наставницу по вепсскому языку Лённрот нашел в лице слепой деревенской старушки, на редкость смышленой и быстро уразумевшей, что от нее ожидалось. Она дала Лённроту нужный языковой материал.
Между тем русский язык в вепсских деревнях был уже распространен, дети предпочитали говорить на нем, и родители поощряли их в этом, «поскольку поняли, что от русского большая польза, а от вепсского — никакой. Где уж им догадаться, какие преимущества скрыты в возможности говорить на родном языке, который считался непреложным даром природы. Когда создано мнение, что чужой язык лучше родного, то тем самым уже подготовлена почва для его преобладания. Даже пожилые люди стараются выучить русский язык, по семь раз спрашивают у своих соседей, владеющих им, о произношении того или иного слова». Русских лексических заимствований в вепсском было много, тогда как грамматическая форма сохранилась несколько лучше — «так рама может пережить саму картину, так сохраняется скелет, когда истлевает плоть», — писал Лённрот.
В положении этнического меньшинства оказывались и саамы на севере Норвегии, Швеции, Финляндии, на Кольском полуострове. Саамские диалекты сильно различались, равно как и интенсивность ассимиляционных процессов. Лённрот с Кастреном провели в финляндской Лапландии и на Кольском полуострове довольно много времени, жили в саамских домах и вежах, покрывали длинные расстояния на оленях. Ездили зимой, потому что летом передвигаться было затруднительно. К тому же саамы на лето уходили к морю на летние стойбища. Лённрот описывал трудную жизнь саамов, пожалуй, с наибольшей теплотой и пониманием. Он не идеализировал их, но моральное его сочувствие было безусловно на их стороне, он видел в них несправедливо притесненный народ, в том числе финнами, которые в иных ситуациях и сами были притесняемы.
На севере Норвегии, как и Швеции, с давних времен проживало финское население, так называемые «лесные финны». Их было несколько тысяч, возникал вопрос об их культурной автономии, но ни шведские, ни норвежские власти не проявляли такой готовности. Церковь в Норвегии и Швеции в лице просвещенных священников также способствовала ассимиляции местных финнов. Лённрот писал по этому поводу не без возмущения: «Сколько же еще веков должно пройти на земле, чтобы человек в своем культурном развитии достиг не только понимания того, чтобы считать свой родной язык самым лучшим, но чтобы признал и за другими народами такое же право и ни уговорами, ни силой не пытался бы заставлять их менять свой язык на чужой».
Однако возмущение Лённрота имело и другой адрес. «Но зачем обращаться к высокообразованным священнослужителям Норвегии, когда тот же вопрос об обучении лопарей закону Божьему и еще множество других вопросов можно было бы задать нашим финским священникам. Мы привыкли жаловаться на то, что во время шведского господства наш родной язык был притеснен, и тем не менее, как только посредством Реформации освободились от латыни, очень скоро были раздобыты для народа и Библия, и прочие священные книги на финском языке. Если не что иное, то хотя бы чувство признательности за свершившуюся справедливость, выпавшую на нашу долю, должно было бы обязать нас признать и за лопарями такое же право». Как считал Лённрот, легче одному священнику выучить саамский язык, чем всем его прихожанам-саамам — финский.
Лённрота больше всего подкупала в саамах непосредственность их поведения и чувств. Лённрот наблюдал и описал характерную сцену саамского быта: когда двое саамов отправлялись в далекий путь к морю, все родственники вышли прощаться, и более всего Лённрота поразила сама эта сцена прощания. «Мне доводилось видеть и самому испытать немало трогательных прощаний, но расставание лопарей со своими родными было, пожалуй, самым трогательным. Я еще ничего не знал о готовящейся поездке, но заметил, что одна довольно молодая женщина тайком проливает слезы, и не мог понять, в чем дело. Лишь потом, когда отъезжающие уложили свои вещи и привели оленей из леса, в избе все принялись плакать и всхлипывать, креститься и кланяться перед иконами, обнимать и целовать отъезжающих <…> Затем, когда все уселись в кережки, с ними еще раз обнялись и расцеловались. Когда же они наконец тронулись в путь, многие из близких бросились в объятия уезжающих либо вскочили на возки с поклажей». И, как часто бывает у Лённрота, чувствительный эпизод завершается легкой улыбкой: «Олени, которые мало разбирались в сценах прощания, зато хорошо чувствовали сильный ветер, на котором им пришлось порядком померзнуть, резко сорвались с места и помчались что было сил».
Непосредственность, однако, могла обернуться и полной беззащитностью. Приезжая в торговые центры со своими товарами — олениной, шкурами, мехами, — саамы становились объектом корыстного внимания, их зазывали в гости, щедро поили водкой, дарили бочонки с зельем с собой в дорогу, ожидая ответных подарков в виде мехов. Во время приездов саамы предавались безудержному пьянству, последние бочонки опустошались уже на обратном пути в кережах посреди снежной пустыни. Оказавшись седоками саамских возниц, Лённрот и Кастрен испытали на себе их безграничное компанейское гостеприимство. Как описывает Лённрот, к бочонкам путники «прикладывались чуть ли не через каждую версту, заставляя пить и нас. От первых предложений мне удалось отказаться, сославшись на то, что я не умею пить прямо из отверстия бочонка, а только из чарки, каковой у них не оказалось. Но вскоре они нашли выход: сняли колокольчик с оленьей шеи и предложили мне вместо чарки, и стоило мне лишь раз пригубить ее, как потом пришлось прикладываться к ней всякий раз вместе с лопарями. За эти восемь миль по меньшей мере раз двадцать они заставляли меня подносить ко рту этот колокольчик. Временами я пытался уклониться, доказывая, что от прежде выпитого я не чувствую ног, но это не помогало — лопари заверили меня, что если бы даже я не мог сдвинуться с места, они доставили бы меня в Муотка живым и невредимым. Мы убереглись-таки от несчастного случая и ушибов и часов в десять вечера приехали в Муотка, с трудом вошли в дом, который нам посоветовали, и завалились спать. В Лапландии даже гостям редко стелют постель, каждый обычно пристраивается во всей одежде где придется — на лавке или на полу».
Несмотря на шутливую — и самоироничную — интонацию, Лённрот подчеркивал, что в общем-то было не до смеха. Он видел картины дикого пьянства, у саамов позволялось напиваться даже детям. Когда Лённрот спросил, зачем же опустошать все винные запасы сразу, ему ответили: «Вино — дурное зелье, а от плохого чем быстрее избавишься, тем лучше».
И все же Лённрот очень остерегался бросать камень упреков непосредственно в своих спутников. Он даже не считал их большими пьяницами, рассуждая при этом, что иной добропорядочный городской обыватель, которого ни разу не видели пьяным, тем не менее пьет в год в десять раз больше, чем лопарь, который много месяцев подряд вообще капли в рот не берет. «Будучи сами постоянными рабами различных наслаждений, позволим же и лопарям хоть несколько раз в году как-то разнообразить свою жизнь. После бури обычно восхваляют безветрие, после болезни познают цену здоровью. Так и лопарю, оправившись после похмелья, легче смириться со своим уединением и с бесконечными и постоянными снегами».
Лённрот не склонен был уж очень сурово упрекать саамов, тем более что в трудные минуты и сам давал себе послабления. Описывая состояние тоски из-за долгой задержки в Коле, он добавлял в письме к Ф. Ю. Раббе, что иногда по вечерам ходил в гости: «Особенно часто я бываю у доктора, где посылаю ко всем чертям общество трезвенников, которое оставил в Каяни. Но все же по этому письму ты можешь заключить, что я делаю не очень большие отклонения, поскольку только что вернулся от него и сел писать».
Злоупотребление алкоголем Лённрот наблюдал не только у саамов, но и у вепсов. По поводу пьяной драки в вепсской деревне он с усмешкой даже заметил, что хотя «ругались там по-русски», но «затрещины друг другу давал и по-вепсски». Однако и в этом случае Лённрот воздерживался от ханжеского морализаторства по поводу «порчи нравов», а обращал свою критику и гнев скорее против тех, кто толкал народ на пьянство и наживался на этом. «Я знал одного богатого крестьянина, живущего неподалеку от Каяни, который рассчитал работника после первого года лишь потому, что тот за год не пропил свой заработок <…> Я знавал немало так называемых «благородных» людей, которые, презрев моральные и светские законы, преуспели в грязной профессии кабатчиков, и таких, которые, обговорив заранее прибыль, передоверяли это дело своим слугам и прочим прислужникам. Знал я и так называемых барынь, которые, с четвертью в одной руке и с бутылкой в другой, продавали вино у себя дома, в то время как муж по долгу службы проповедовал в церкви против вина и прочих зол».
Лённрота обычно причисляют к романтикам — в основном по его принадлежности к определенной культурной эпохе. Однако это ни в коем случае не следует понимать в поверхностном смысле, в том числе по его отношению к народу. Он не идеализировал народ и не романтизировал его, но и не впадал в отчаяние от замеченных пороков, темных пятен. Лённрот смотрел на народ уравновешенным, спокойным взглядом и стремился по мере сил просветить его, в то же время отлично понимая, какой огромный нравственный, духовный, художественно-поэтический потенциал заложен в народном сознании и в народной культуре.
ВСТРЕЧИ С РУНОПЕВЦАМИ
Путевые очерки и дневники Элиаса Лённрота позволяют судить о том, что во время своих многочисленных поездок он записывал фольклор по меньшей мере от нескольких десятков, а то и сотен людей, хотя по имени из них упомянуты не более десяти.
Возникает вопрос: почему такое умолчание имен и сведений о рунопевцах? В прошлом допускалась даже мысль, будто тут проявлялось со стороны собирателей-интеллигентов некое пренебрежение к «безымянным» людям из народа, некая сословная спесь. Но уже то, что мы знаем о Лённроте, о его врожденном демократизме, опровергает такое допущение, и это же относится и к другим собирателям, во всяком случае к большинству из них.
Действительных причин, почему Лённрот и современные ему собиратели не считали обязательным упоминание имен и других сведений об исполнителях, было несколько, укажем на главные из них.
Во-первых, фиксировать сведения о рунопевцах не всегда позволяли сами обстоятельства записи.
Во-вторых, фольклористическая наука еще не выработала к тому времени тех нормативных правил записи, которые стали общепринятыми лишь много лет спустя.
И, в-третьих, самая существенная, пожалуй, причина: в эпоху Лённрота преобладал еще такой взгляд на народную поэзию, когда она считалась результатом исключительно коллективного, а не индивидуального творчества. Она была как бы анонимной, безымянной, — недаром ее называли народной поэзией, в которой выражалось именно общенародное, а не индивидуальное начало. Даже самые выдающиеся и талантливые рунопевцы, которых Лённрот упомянул по имени, рассматривались все же как хранители древней общенародной рунопевческой традиции, а не как индивидуальные авторы-творцы.
Рассмотрим несколько подробнее, в каких условиях происходила собирательская работа Лённрота.
Вот, например, характерная ситуация, описанная Лённротом в заметках о его поездке 1833 г. Его интересовали тогда, в частности, народные пословицы и поговорки — он намеревался издать их отдельным сборником (который вышел в 1842 г. и содержал около семи тысяч пословиц). Поэтому Лённрот охотно записывал пословицы, тем более, что встречалось их великое множество. По словам Лённрота, «повсеместно, где бы ни собирался народ и где бы ни читал я вслух ранее собранные пословицы, мои записи всегда пополнялись новыми. Достаточно было привести три-четыре пословицы, как кто-то из собравшихся тут же припоминал новую и спрашивал, не была ли она раньше записана. Бывало, пословицы так и сыпались со всех сторон, и я едва успевал записывать. Так же обстояло дело и с загадками». Как видим, время и обстоятельства не позволяли интересоваться именами и биографическими подробностями.
Также запись рун в какой-нибудь отдаленной деревне или целой волости происходила в весьма ограниченные сроки. Лённрот не мог позволить себе нигде задерживаться долго, он должен был — зачастую впервые — обследовать обширные районы, в одной и той же деревне задерживался максимум два-три дня и спешил дальше. К тому же он был связан разными практическими обстоятельствами — иногда должен был найти проводника, лодку с гребцами, попутную подводу и т. д. Из дневника Лённрота следует, что в такой-то деревне руны пелись многими и что он со многими встречался, но по имени упоминались лишь самые выдающиеся рунопевцы.
В 1838 г. Лённрот записывал в Приладожье преимущественно лирические песни, которых там обнаружилось много и лучшие из которых потом вошли в знаменитую антологию народной лирики «Кантелетар». В одном из писем Лённрот сообщал, что в деревнях волости Иломантси он вел записи песен в течение полутора недель и добавлял: «Здесь оказалось много певцов, и, наверное, я не успел посетить и половины из тех, что мне посоветовали». Из всех приладожских исполнителей, встреченных Лённротом в ту поездку 1838 года, он упомянул по имени только одну — Матэли Куйвалатар, но зато «настоящую певицу», как он отозвался о ней в письме. Однако и в этом случае по записям Лённрота невозможно с точностью установить, какие именно песни были исполнены этой выдающейся певицей и какие другими исполнителями. Так называемая «паспортизация» исполнителей (с указанием имени, возраста, родословной, времени и места записи и т. д.) была введена в фольклористику и собирательскую работу намного позднее.
Тем не менее Лённрот оставил чрезвычайно интересные, в своем роде уникальные сведения о крупнейших рунопевцах, и потомки за это благодарны ему. Ранее уже говорилось о Юхани Кайнулайнене, с которым Лённрот встречался летом 1828 г. в финляндской Карелии.
В сентябре 1833 г. Лённрот в свою четвертую экспедиционную поездку встретился с двумя выдающимися беломорско-карельскими рунопевцами — Онтреем Малиненом и Ваассила Киелевяйненом, жителями деревни Вуоннинен волости Вуоккиниеми. Хотя приводимые Лённротом сведения довольно скупы, все же об Онтрее Малинене узнаем несколько подробнее. Упоминается о его семье и родственных связях, о сыновьях и невестках, мать одной из которых была финкой (вышедшей в свое время замуж за карела), — в пограничных деревнях подобные браки, по наблюдению Лённрота, случались сравнительно часто. Лённрот отметил и то, что в доме у Онтрея Малинена «имелось кантеле с пятью медными струнами, на котором он сам и оба сына искусно играли».
Что же касается записи рун от Онтрея, то, как следует из дневника Лённрота, время было ограниченным не только у него, но и у рунопевца. Лённрот сообщает, что по прибытии в деревню Вуоннинен он на следующий день записывал руны от Онтрея с утра до полудня. «С удовольствием провел бы с ним и послеобеденное время, но он не мог остаться дома — без него не справились бы на тоне с неводом. Я пожелал ему хорошего улова, предварительно договорившись о том, что если он наловит достаточное количество рыбы, то будет петь весь следующий день. Улов был не такой большой, но мне все же удалось записать под его диктовку довольно много рун. Вечером, когда Онтрей снова ушел на тоню, я пошел к Ваассила, который жил на другой стороне узкого пролива. Ваассила, известный знаток заклинаний, был уже в преклонном возрасте. Память его за последние годы ослабла, он не помнил того, что знал раньше. Тем не менее рассказал множество таких эпизодов о Вяйнямейнене и других мифологических героях, которые мне до этого были неизвестны. Если ему случалось забыть какой-либо эпизод, знакомый мне ранее, я подробно расспрашивал его, и он вспоминал. Таким образом, я узнал все героические деяния Вяйнямейнена в единой последовательности и по ним составил цикл известных нам рун о Вяйнямейнене».
Как видим, сам Лённрот, а вслед за этим и исследователи, считали его встречу с Ваассила Киелевяйненом чрезвычайно важной как дополнительный стимул к объединению рун в один целостный цикл, что и произошло в «Калевале» (а еще до нее в предшествующих версиях-циклах, которые Лённрот тоже готовил для публикации). Встреча с Киелевяйненом представлялась ему тем более существенной, что в циклизации рун, в приведении их в единую последовательность участвовал в данном случае сам рунопевец, хотя исследователи и считают, что произошло это все-таки, по меньше мере отчасти, под влиянием Лённрота, его наводящих вопросов и «подсказок» старому рунопевцу-заклинателю. Сам Лённрот был убежден, что подобная тенденция к объединению рун наблюдалась уже в собственно народной традиции. Этим аргументом он подкреплял свое моральное право поступать таким же образом в «Калевале».
В заметках о той же поездке 1833 г. Лённрот приводит дополнительные подробности о том, в каких условиях и от кого ему приходилось записывать руны. Из деревни Понкалахти в деревню Вуоннинен (расстояние двадцать километров) его подрядились доставить на лодке два юных гребца — деревенские мальчики пятнадцати и семи-восьми лет. Они были братьями, старший в пути вызвался петь руны за дополнительное вознаграждение, и Лённроте интересом и готовностью записывал прямо в лодке во время гребли. А дальше он рассказывает: «Младший брат, тоже пожелавший немного подзаработать, спросил, не дам ли я ему «грош» (двухкопеечную монету, на которой изображен всадник) за сказку, которую он расскажет. Я сказал, что дам ему и два гроша, пусть только подождет, пока я запишу руны у старшего. Он согласился, но, когда до берега осталось версты две, а я все еще записывал руны, он заплакал. Мне пришлось прервать записи рун и заняться сказкой. Ветер гнал лодку к берегу, и я велел паренькам не грести, чтобы растянуть время». Лённрот так-таки успел выслушать и записать сказку, любуясь чисто детскими интонациями маленького рассказчика. А в заключение подытожил: «Таких сказок много, они мифологические по содержанию и заслуживают того, чтобы их собирали».
Добавим, что исследователи впоследствии установили имя пятнадцатилетнего рунопевца и попутчика Лённрота. Им оказался житель деревни Понкалахти по имени Лукани Хуотари; от него много позднее, в 1877 г., записывал руны собиратель А. Борениус.
Не без юмора рассказывал Лённрот и о некоторых других случавшихся с ним историях. Обычно он неохотно признавался в своих фольклорных поездках, что он еще и врач, — это могло сильно отвлекать от его непосредственных целей. Но скрывать все же не удавалось, были экстремальные ситуации, требовавшие безотлагательного врачебного вмешательства. Лённрот упоминает, например, что однажды ему пришлось срочно удалять десятилетней девочке патологически деформированный, уже вываливавшийся из глазницы глаз. В путевых заметках Лённрот отметил при этом, что «старый знахарь из местных тоже хотел сделать операцию, но мать девочки не соглашалась». Потом, когда операция благополучно закончилась, мать упала к ногам Лённрота и благодарила его словами: «Вы сам бог, раз избавили меня от такого горя». Комментируя эти слова, Лённрот заметил, что «здесь люди порою называют обычных деревенских знахарей и заклинателей полубогами и идолами». То, что люди падали к его ногам, было непривычно для Лённрота. Он объяснял это византийскими влияниями, однако пациентов у него после того случая прибавилось.
История, о которой теперь пойдет речь, несколько иного рода. Хозяйка дома в деревне Кивиярви, где Лённрот остановился на ночлег, жаловалась на сильные боли «под ложечкой». Он дал ей лекарство, но ее стоны долго не утихали. Позднее в дом вошли еще двое путников, улеглись спать, но не могли уснуть от стонов хозяйки. Дальше произошло следующее: «В конце концов один из мужчин поднялся со своей лавки и словно полоумный подбежал к ее постели, разостланной на полу, резко схватил старуху за руки и так начал трясти, что я подумал, уж не хочет ли он лишить ее жизни. Это продолжалось несколько минут, потом он прочитал отрывки каких-то заговоров, заклиная так страшно, что все мое существо дрожь пробирала. Через некоторое время он кончил, совершенно спокойный лег на лавку и уснул. Старуха тоже погрузилась в сон — то ли подействовало заклинание, то ли ранее выпитое лекарство. Наутро я слышал, как она благодарила заклинателя, совершенно забыв о моем лекарстве».
Между прочим, припасенными лекарствами Лённрот нередко «рассчитывался» за исполненные руны, а заодно раздавал и тем больным, которым было не до рун. Иные рунопевцы готовы были брать деньги, это тоже практиковалось, а кое-кто предпочитал рюмку-другую рома. Ко всему этому Лённрот привык и приноровился, всегда имел с собой некоторые запасы для угощения, несмотря на таможенные строгости по провозу запрещенных товаров.
Уже из приведенных подробностей в описании встречи Лённрота с Онтреем Малиненом, а еще раньше с Юхани Кайнулайненом, ясно, что рунопевцы были занятые люди. Трудовой ритм их быта и хозяйственных занятий был особенно напряженным в летнее время. Пожни и покосы, рыбные тони и ягодные места могли быть далеко от дома, люди привыкли неделями жить в отдаленных рыбачьих и лесных избушках. Словом, собирателю рун не всегда удавалось застать лучших певцов на месте в родной деревне. Например, имя известного рунопевца Архипа Перттунена впервые упомянуто Лённротом еще в заметках 1833 г., то есть он слышал о таком певце от местных жителей и собирался было уже поехать в деревню Латваярви, но узнав, что Архипа не было дома, в тот раз не поехал.
Опыт подсказал Лённроту, что в Беломорскую Карелию лучше было ездить в зимнее время. Эту мысль он высказал еще в путевых заметках о своей третьей поездке в 1832 г., то есть когда впервые побывал в районе Репола — Аконлахти. «Я бы посоветовал тому, кто захочет совершить поездку в эти края, — писал Лённрот, — совершить ее зимой. Тогда ему было бы удобнее, взяв из дому лошадь и сани, довезти до места необходимые вещи. К тому же в это время года легче застать людей дома, они менее заняты работой. Да и ездить зимой безопаснее, чем летом, когда в этих местах, как уже говорилось, ходят бродяги и беглые солдаты».
Если в южную часть финляндской Карелии Лённрот считал предпочтительнее ездить летом (это было и удобнее, и дешевле), то в Беломорскую Карелию и особенно на Кольский полуостров и в финляндскую Лапландию он старался ездить зимой, точнее, начиная с поздней осени и до ранней весны, то есть до наступления полного бездорожья. Рассказывая о двух своих поездках 1837 г. от побережья Белого моря до Инари (в финляндской Лапландии) и обратно, Лённрот писал: «Обе поездки пришлись на зимнее время, летом эти места вообще труднопроходимы. Зимой же, напротив, по ним можно хорошо и быстро передвигаться».
Возникали, конечно, и свои неудобства. Побывав в феврале 1842 г. еще раз в Инари, Лённрот заметил мимоходом: «Лишь после того, как проведешь какое-то время в дыму лопарской вежи, сможешь почувствовать, что значит настоящий дом, точно так же, как, поборов болезнь, начинаешь ценить здоровье». Но в награду за лишения выпадали и житейские удачи. Отметив обилие рыбы в Ковде (Кольский полуостров), Лённрот добавлял в записках, что они с Кастреном «купили одного лосося весом двадцать три фунта, из которого несколько дней готовили пищу, но так до Кеми и не успели всего съесть. Мы заплатили за него по двадцать копеек за фунт».
Архипа Перттунена в деревне Латваярви Лённрот посетил в апреле 1834 г. Встреча с певцом произвела на него огромное впечатление, ее описанию он уделил в путевых заметках более трех страниц текста — по весьма экономным нормам Лённрота это была редкая щедрость.
Как оценивают современные исследователи на основе записей в церковных книгах, в которые заносились периодически имена прихожан и которые хранились потом в Архангельском губернском архиве, Архипу Ивановичу Перттунену было к моменту встречи с Лённротом около шестидесяти пяти лет. По разным записям выходит, что он родился между 1768-1771 гг., наиболее вероятным считается 1769 г., а скончался Архип в 1841 г.
Лённрот посчитал Архипа намного старше («это был уже восьмидесятилетний старец»), удивился его хорошей памяти и был впечатлен его внушавшим уважение достоинством. «Несмотря на бедность, дом Архипа был мне более по душе, чем иные зажиточные дома. Все в доме почитали старого Архипа как патриарха, таковым он казался и мне. Он был лишен многих предрассудков, широко распространенных здесь. Он и все домочадцы ели вместе со мной, за одним столом, из одной и той же посуды, что вообще редко бывает в этих местах. Что в сравнении с этим маленькая неухожесть, которую старик проявил во время еды! Он руками взял рыбину из общего блюда и положил мне на тарелку. Сколь ни странной показалась такая манера угощения, но у меня хватило ума оценить ее как проявление доброжелательности. Аппетит у меня от этого не пострадал, тем более что, как и во всех здешних домах, тут строго соблюдают правило мыть руки перед едой и после еды».
Из этого описания следует, что Архип и его семья не были старообрядцами, поскольку лишь в старообрядческих домах Лённроту и другим путешественникам (тому же Кастрену) приходилось есть отдельно из своей посуды. С Лённротом были случаи, правда, редкие, когда из-за религиозных убеждений некоторые местные жители, весьма известные в своей среде рунопевцы, уклонялись от встреч с ним. Но это касалось далеко не всех старообрядцев. Между прочим, старообрядцем был и Онтрей Малинен, о котором уже шла речь. С ним встречался еще в 1825 г. А. Шёгрен, который, подобно Лённроту, не испытывал при этом, по-видимому, особых затруднений.
В оценке Архипа Перттунена как выдающегося певца Лённрот подчеркнул обширность его репертуара и высокое качество исполнения, а в характере отметил внутреннюю одухотворенность, способность к сильным эмоциям и воодушевлению. «Целых два дня и еще немного третьего я записывал от него руны. Он пел их в хорошей последовательности, без заметных пропусков, большинство из его песен мне не доводилось записывать от других; сомневаюсь, чтобы их можно было еще где-либо найти. Поэтому я очень доволен, что посетил его. Как знать, застал бы я старика в живых в следующий раз, а если бы он умер, изрядная часть древних рун ушла бы с ним в могилу».
В этом, почти исключительном для Лённрота, случае он уделил — и в самой беседе с Архипом, и в последующем ее описании — внимание тому, от кого и когда певец усвоил руны. «Когда речь зашла о его детстве и давно умершем отце, от которого он унаследовал свои руны, старик воодушевился», — и дальше Лённрот приводит слова самого Архипа: «Когда мы, бывало, — рассказывал он, — ловя неводом рыбу на озере Лапукка, отдыхали на берегу у костра, вот бы где вам побывать! Помощником у нас был один крестьянин из деревни Лапукка, тоже хороший певец, но все же с покойным отцом его не сравнить. Зачастую, взявшись за руки, они пели у костра все ночи напролет, но никогда не повторяли одну и ту же песню дважды. Тогда еще мальчишка, я слушал их и постепенно запомнил лучшие песни. Но многое уже забылось. Из моих сыновей после моей смерти ни один не станет певцом, как я после своего отца. Да и старинные песни уже не в таком почете, как в годы моего детства, когда они звучали и во время работы, и в часы досуга. Бывает, правда, когда соберется народ, иной, выпив малость, и споет, но редко услышишь что-нибудь стоящее. Вместо этого молодежь теперь распевает какие-то непристойные песни, которыми я не стал бы и уста осквернять. Вот если бы в ту пору кто-нибудь искал руны, как теперь, то и за две недели не успел бы записать всего, что только один мой отец знал».
Насколько можно судить по этому описанию и передаче слов Архипа, рунопевческая традиция к тому времени уже в сильной степени утратила, — хотя, вероятно, еще не до конца, — свою архаическую ритуальную функцию. По меньшей мере Архипу это казалось так. Раз уже в его детстве руны «звучали и во время работы, и в часы досуга», их исполнение вроде бы уже не регулировалось строго определенными ритуальными событиями народной жизни. Вполне допустимо, что тут могла быть значительная доля индивидуального восприятия рунопевческой традиции — именно Архипом, личностью незаурядной, болезненно переживавшей само угасание традиции, хотя тут был и момент преувеличения. После цитированных слов Лённрот комментировал: «Говоря это, старик растрогался чуть не до слез, да и я не мог без волнения слушать его рассказ о добрых старых временах, хотя, как это часто бывает в подобных случаях, большая часть похвал старца основывалась лишь на его воображении. Старинные руны пока еще не забылись настолько, как он полагал, хотя их на самом деле становится все меньше и меньше. Руны еще можно услышать в наши дни; возможно, их услышат несколько поколений и после нас. Неверно и то, что к рунам относятся с пренебрежением. Наоборот, когда их поют, то слушают и молодые, и старые».
Лённрот оказался прав в своей общей оценке — рунопевческая традиция в Беломорской Карелии, постепенно угасая, тем не менее сохранилась еще в течение нескольких поколений. Не кончился на Архипе и рунопевческий род Перттуненов. Крупным рунопевцем стал сын Архипа — Мийхкали Перттунен (около 1815— 1899), замужем за представителем того же рода была Татьяна Перттунен (1879—1963).
Случилось так, что во время посещения Архипа Лённрот едва ли не впервые в жизни услышал карельские похоронные плачи, исполненные в связи с постигшим семью горем. «В доме Архиппы, когда я пришел к ним, — рассказывает Лённрот, — один из детей был при смерти. Все домашние, как и я, понимали, что лекарства уже не помогут. Они спросили у меня, как я думаю: от Бога ли эта болезнь или же наслана дурными людьми? Я сказал первое, да и сами они были склонны так думать. Вечером все легли спать, одна мать осталась сидеть возле постели больного ребенка. Через некоторое время меня разбудил пронзительный, душераздирающий, глубоко трогающий плач-песня матери, который возвещал о кончине ребенка. О сне нечего было и думать. Пока мать причитала и плакала одна, было еще терпимо, но вскоре из соседнего дома привели специально приглашенную плакальщицу, голос которой был во много раз пронзительней, чем у матери. Они обняли друг друга и начали причитывать что есть мочи. Наконец тело было обмыто теплой водой, обтерто березовыми листьями и одето в чистую льняную рубашку. Рот прикрыли чистым полотняным лоскутом, по такому же лоскуту положили на ноги. В талии тело обвязали шнурком, заменяющим пояс, поскольку отправляясь в путь, не говоря уже о вечности, принято подпоясываться. Все это время женщины голосили, повторяя тот же душераздирающий плач. Мать и другие плачущие (а днем их собралось несколько человек) время от времени обнимали друг друга либо старого Архипа и других домочадцев. Лишь меня избавили от этих объятий. Старик Архип несколько раз просил мать успокоиться, но напрасно. Голошение продолжалось целый день. Подобное выражение скорби здесь называется причитанием, а сама скорбная песня — плачем».
В этом описании впечатляет не только сама горестная ситуация, но и этнографическая наблюдательность описывающего. Помимо чисто человеческого сочувствия и сострадания, для этого нужен был еще опыт исследователя народной жизни, народных обычаев, народной культуры.
Лённрот накопил этот профессиональный опыт, выработал профессиональное умение, не утратив при этом ничего человеческого.
НА ПОДСТУПАХ К «КАЛЕВАЛЕ»
Теперь нам предстоит рассмотреть, как же на основе собранных рун создавалась «Калевала», та главная книга Элиаса Лённрота, через которую рунопевческая культура лесных карельских деревень обрела мировую славу.
Обещая не утомлять читателя чрезмерными подробностями, мы все же должны остановиться на основных этапах длительной и многосложной составительской работы Лённрота, занявшей в общем итоге около двух десятилетий. «Калевала» и «Кантелетар» составляли главный смысл его жизни, и история возникновения этих классических книг достойна внимания.
Не секрет, что даже среди образованных людей, слышавших о «Калевале» и читавших ее, нередко бытует упрощенное представление о том, как она возникла и в чем, собственно, состояла роль Лённрота как составителя. Само слово «составитель» часто понимается в этом случае точно таким же образом, как и составитель фольклорного сборника или сборника писательских рассказов: отобрал материал и включил его в сборник.
Но работа Лённрота над «Калевалой» была существенно иной. Он не просто издал полевые записи рун, а переработал их в единый эпический свод, в единую поэму со сквозным сюжетом, включающим главные события и главных героев эпоса.
Отметим для ясности еще и то, что слово «эпос» часто употребляется в разных значениях. Для примера: эпосом называют и древнегреческую «Илиаду», и русские былины. В первом случае это единая героическая эпопея, во втором — совокупное название отдельных героических песен, из которых по ряду причин единой героической эпопеи не возникло.
Лённрот в итоге большой собирательской работы располагал записями отдельных эпических рун, но его целью в «Калевале» было их объединение в целостное сюжетное повествование.
Создание такого повествования-эпопеи было настоящим творчеством — на основе фольклорного материала. Поэтому можно с полным правом утверждать: «Калевала» — это сотворчество и рунопевцев, и Элиаса Лённрота. Как это сотворчество протекало, мы и должны рассмотреть.
Создание «Калевалы» в том виде, в каком мы ее знаем, было именно длительным и многоэтапным процессом. В течение двух десятилетий, предшествовавших «Калевале» 1849 г., Лённрот подготовил ряд промежуточных публикаций, одни из которых были действительно опубликованы, другие остались в рукописи и были изданы лишь посмертно в научных целях.
К канонической «Калевале» Лённрот продвигался постепенно. По мере накопления все новых фольклорных материалов, собранных и им самим, и другими собирателями, вызревала и видоизменялась идея будущего эпического свода. Подчас творческая мысль опережала темпы публикации, и тогда Лённрот просил погодить с печатанием представленной им редакции, намереваясь ее дополнить и переработать.
Первой фольклорной публикацией Лённрота был сборник под названием «Кантеле». Он вышел четырьмя выпусками-тетрадями в 1829—1831 г. Пятый выпуск был подготовлен, но не вышел, а от подготовки последующих выпусков Лённрот воздержался, загоревшись новой идеей объединения рун.
Уже в сборнике «Кантеле» наметились некоторые принципы обработки фольклорного материала. Отчасти Лённрот следовал примеру С. Топелиуса-старшего, опубликовавшего в 1822—1831 гг. пять выпусков рун. Выпуски Топелиуса назывались: «Древние и новые песни финского народа» — в сборнике Лённрота аналогичным был подзаголовок. Интересна развернутая рецензия Лённрота на четвертый выпуск (1829 г.) Топелиуса. В рецензии отразился именно ранний период собирания и публикации рун, когда многое оставалось еще недостаточно проясненным: необследованными были фольклорные регионы, принципы публикации только вырабатывались. Ведь сам Лённрот к тому времени еще ни разу не успел побывать в Беломорской и Олонецкой Карелии, да и Топелиус там не бывал — руны он записывал у себя дома в приботнийском городе Нюкарлебю (Уусикаупунки) от странствующих карельских коробейников, которые были родом из волости Вуоккиниеми. На этом основании Топелиус в предисловиях к своим выпускам высказал мысль, что волость Вуоккиниеми должна быть самым богатым фольклорным регионом, и это указание Лённрот по достоинству оценил в своей рецензии. Много лет спустя, в 1857 г., Лённрот опубликовал биографическую статью о Топелиусе (включенную в сборник «Замечательные люди Финляндии»), и там он еще более определенно подчеркнул культурно-историческое значение указания Топелиуса на Вуоккиниеми: для других собирателей, в том числе для самого Лённрота, это было важным ориентиром.
В рецензии 1829 г. Лённрот отметил еще и такой нюанс: то, что руны, согласно указанию Топелиуса, все еще пелись в Вуоккиниеми, подтверждало их подлинность, исключало всякую мистификацию, позволяло любому сомневающемуся удостовериться в том, что они действительно народные, а не сочиненные публикатором. Здесь опять-таки следует учитывать особенности того времени, когда еще свежи были в памяти споры о песнях Оссиана и мистификаторстве Джеймса Макферсона. Для образованного мира карело-финские руны были новым явлением, в их народности могли и усомниться, их подлинность надо было аргументированно доказать. Этот вопрос будет еще долго в поле зрения Лённрота, он и применительно к собственным публикациям не упустит случая подчеркнуть их подлинно народную основу.
В рецензии 1829 г. указывалось на то, что в качестве культурного наследия руны ценны во многих отношениях: в них запечатлелась национальная мифология, они могли быть историческим источником, филолог-языковед мог изучать по ним особенности народных диалектов.
И вместе с тем уже в упомянутой рецензии 1829 г. Лённрот выдвигал и другую сторону проблемы: для современного широкого читателя фольклорный материал нуждался в определенной обработке, передать всю его специфику с абсолютной полнотой было невозможно.
В языковом отношении уже Топелиус допускал определенную унификацию фольклорных текстов, и Лённрот в рецензии одобрил его. Сославшись на веские аргументы обще культурного характера, он сформулировал тот важнейший принцип, которому будет следовать в своих публикациях. Лённрот писал в рецензии, что хотя специалист-диалектолог, которого интересуют народные говоры, может возразить против языковой унификации фольклорных текстов, однако и ему надлежит помнить, что «руны — не только его частное дело. К ним должно относиться как к священному наследию, доставшемуся нам от предков вместе с кантеле. И с этой точки зрения нужно сделать все возможное для их общедоступности, придать им такой вид, чтобы их могла читать вся нация, а это немыслимо, если воспроизводить диалектные различия вплоть до мелочей. По этой причине рецензент вполне одобряет избранный господином Топелиусом принцип воспроизведения текстов», — и Лённрот приводил примеры языковой унификации. Он аргументировал это еще и тем, что сами рунопевцы из числа странствующих коробейников, оказавшись в иной диалектно-языковой среде, начинали в какой-то мере отклоняться от норм родного диалекта. Для Лённрота диалектные нормы не были абсолютными, жизнь языка находилась в движении и зависела от конкретной жизни людей. Общим же направлением в национальном масштабе было постепенное движение к единым нормам литературного языка.
Как видим, главной для Лённрота была общенациональная роль фольклора, его основополагающее значение в современном национально-культурном развитии. Исходя из этих целей, Лённрот уже в первых публикациях пошел дальше Топелиуса в обработке полевых записей, позволив себе в ряде случаев объединить варианты в более целостный текст. В сборнике «Кантеле» только в некоторых текстах воспроизводились рунопевческие варианты, чаще применялся метод комбинирования фрагментов. Лённрот опирался при этом на мысли X. Г. Портана, считавшего возможным преодолевать подобным образом фрагментарность записей.
Подчеркнем, что это вовсе не означало ни со стороны Портана, ни со стороны Лённрота какой-то недооценки собственно фольклорной традиции, искусства самих рунопевцев. Напротив, они не упускали случая отметить одаренность певцов и самоценность народной культуры в целом. Также в предисловии к сборнику «Кантеле» Лённрот выразил свое восхищение тем, что это была поэзия простых крестьян, простых людей из народа.
Но для чего же тогда нужно было Лённроту непременно обрабатывать фольклорные записи? Почему нельзя было предложить читателю руны в том виде, в каком их пели рунопевцы?
Со временем фольклористическая наука будет поступать именно так и опубликует все самое ценное из фольклорных архивов в виде полевых записей с минимальным редактированием. Но эти издания будут для науки, а не для широкого читателя. Такие издания нужны, но их читают только немногочисленные специалисты, имеющие особую подготовку для понимания древней культуры, архаических верований, своеобразия народных говоров и многих других вещей.
Перед Лённротом же стояли совсем другие, общенациональные культурные задачи, и он хорошо это сознавал. Для него была важной культурная преемственность, он хотел сделать древнюю поэзию понятной современным поколениям, хотя это и было непросто.
Были, конечно, и некоторые другие соображения у Лённрота при обработке рун, связанные, в частности, с тогдашним пониманием самой фольклорно-эпической традиции, ее происхождения и эволюции.
Но главной для Лённрота была все-таки проблема культурной преемственности, и решать ее можно было созданием такого эпического свода, который был бы воспринят современниками-соотечественниками как национальный эпос — в том значении этого слова, в каком принято говорить об эпических поэмах других народов, начиная с гомеровских поэм.
Необходимо было проложить мост от древней культуры к современной. Ведь традиционная фольклорная поэзия в ее устном бытовании, с одной стороны, и современная литература, с другой, — это две исторически разные стадии культурного развития. Лённроту предстояло как-то связать и совместить две культурные эпохи, добиться их взаимодействия и взаимопроникновения.
Лённрот-публикатор должен был считаться с тем, что тысячелетняя устно-поэтическая традиция, становясь именно через публикации частью современной письменной литературы, начинала функционировать в совершенно новой социальной среде, в новом культурном контексте и, следовательно, должна была обрести новую форму. Следует только вдуматься в это: фольклор веками и тысячелетиями функционировал в условиях, близких к первобытно-общинным, с преобладанием мифологических представлений, с соответствующими язычеству моральными нормами, с тотемными культами животных и одновременно с правом кровной мести по отношению к иноплеменникам. И можно представить себе удивление и даже недоумение, когда этот архаический мир вдруг неожиданно предстает перед совершенно неподготовленным для его восприятия современным читателем. То, что было еще в какой-то степени понятно по традиции старым людям в глухих карельских деревнях (хотя и ими многое уже забывалось и становилось непонятным), современному читателю, воспитанному в иной культурной среде, это могло вообще показаться тайной за семью печатями.
В финской печати можно иногда прочитать о том, что «Калевала» сегодня кажется финну книгой как бы «на иностранном языке». Заметим, это говорится о «Калевале», не о собственно фольклорных вариантах, которые Лённрот именно через «Калевалу» в значительной степени уже приблизил к современному читателю. Но и в «Калевале» еще много архаической лексики, древних мифологических представлений, образов, метафор, которые непросты для современного восприятия. Ведь всего архаического Лённрот ни в коем случае не мог устранить — тогда не осталось бы и древней поэзии. К фольклору Лённрот относился очень бережно и все делал с умом и любовью. Но цель — приблизить древнюю поэзию к современному читателю — оставалась, она была главной.
Современные фольклористы и этнографы справедливо утверждают, что культурные явления, особенно древние, вообще невозможно глубоко понять без проникновения в эпоху, в условия жизни народа во всей их совокупности, во всем их общем «контексте» — отсюда возникло и название одного из современных научных направлений: контекстуализм, изучение чего-либо в общей совокупности.
Лённрот не знал этих новейших теорий наших дней, но он интуитивно многое предугадывал и настойчиво продвигался к своей цели. Мы уже знаем о его интересе к народной жизни — к быту, занятиям, обычаям, поверьям. Ведь чтобы понять магическое заклинание, нужно знать, отчего оно, какова его функция и почему оно так долго хранится в народном сознании.
Кое-что было малопонятным и Лённроту. Например, народные плачи-причитания, в особенности их язык и архаическая символика, смысл которой ученые разгадывают только через сложные этнографические исследования.
Может быть, плачи — самый убедительный пример того, что было бы в случае их включения Лённротом в «Калевалу» именно в таком виде, как они исполнялись деревенскими женщинами при похоронах и свадьбах. Текст их был бы совершенно непонятен для обычного читателя.
Лённрот не стал этого делать, но зато он включил в «Калевалу» обширный цикл свадебных песен, в том числе таких, которые близки к свадебным причитаниям. Да и оплакивание гибели Лемминкяйнена матерью в чем-то напоминает похоронную причеты Приуроченные к конкретным сюжетным эпизодам «Калевалы», эти обрядово-лирические циклы гораздо более понятны читателю.
Забегая вперед, скажем еще о следующем, чтобы подчеркнуть, в каком направлении продвигался Лённрот в своей двадцатилетней составительской работе. В расширенной редакции «Калевалы» 1849 г., которую он сам считал окончательной, вовсе не случайно представлены столь обширные циклы свадебной и заклинательной поэзии и вообще уделено повышенное внимание бытовой стороне народной жизни, наряду с мифологическими сюжетными линиями. Лённрот стремился к максимально полной и совокупной картине жизни древних людей — так она лучше и ярче открывалась глазам современников.
Но к этой полноте Лённрот пришел не сразу, а поэтапно, шаг за шагом. Помимо полноты и понятности, у него были и другие цели — эстетические, этические, национально-идеологические, все во взаимосвязи. Мы обратимся к ним в своем месте.
В выпусках сборника «Кантеле» Лённрот еще довольствовался унификацией языка (диалектных различий) и компоновкой текстов отдельных рун и заклинаний из разных вариантов и фрагментов. Всего в сборнике было 88 текстов, насчитывавших около 5300 стихов. По объему сборник превосходил издания С. Топелиуса, уступая, однако, по количеству собственно эпических рун. В «Кантеле» Лённрота преобладали заклинания, запас эпических рун ему предстояло пополнить в будущих экспедициях.
Дальше Лённрот предпринял принципиально новый шаг и стал компоновать не только отдельные тексты рун, но целые сюжетные циклы, объединенные вокруг главных эпических героев — Вяйнямейнена, Илмаринена, Лемминкяйнена. Эта идея выражена в его письме к К. Н. Чекману (секретарю Общества финской литературы) от 25 июля 1833 г., где Лённрот сообщал примерные объемы каждого из циклов. Рукопись цикла о Лемминкяйнене у него была уже готова (825 стихов); цикл о Вяйнямейнене предполагался в четыре печатных листа (около 2000 стихов) и цикл об Илмаринене в полтора-два листа. В том же письме Лённрот давал понять, что новых выпусков типа «Кантеле» он уже не намерен готовить. Планируемые сюжетные циклы были своего рода микроэпосами, в приложениях к которым Лённрот считал возможным приводить некоторые собственно исполнительские варианты рун — отчасти подобные приложения будут и в первом издании «Калевалы» 1835 г., но в издании 1849 г. их уже нет.
Подготовленный Лённротом цикл рун о Лемминкяйнене остался неизданным, а о Вяйнямейнене он собрал дополнительный материал в свою четвертую поездку в Беломорскую Карелию в сентябре 1833 г. Идея объединения (циклизации) рун уже владела им — это отразилось в его описании встречи с Ваассила Киелевяйненом, от которого он хотел получить подтверждение тому, что руны объединялись в циклы уже при исполнении самими рунопевцами.
В октябре 1833 г. Лённрот подготовил рукопись цикла рун о Вяйнямейнене объемом в 1721 стих (к этому прилагались еще отрывки вариантов в 147 стихов). По существу здесь было два цикла, сюжетно мало зависимых друг от друга. Один цикл включал руну о золотой деве (ее кователем выступал еще Вяйнямейнен, а не Илмаринен, как в «Калевале»), руны об изготовлении и похищении Сампо, о сватовстве в Похъёле и некоторые другие. В число рун второго цикла входили, в частности, сюжеты о состязании в пении, о посещении Вяйнямейненом Туонелы, о его единоборстве с чародеем Випуненом, об изготовлении кантеле.
Вслед за тем Лённрот составил особый сборник свадебных песен, в основном из полевых материалов, собранных им в деревнях волости Вуоккиниеми. Комбинированные тексты свадебных песен (общим объемом 499 стихов) относились к отдельным обрядам-этапам свадебного ритуала, но еще не составляли целостного сюжетного описания всей свадебной церемонии, как это будет потом в «Калевале». Лённроту не доводилось наблюдать непосредственно свадьбу в деревнях Вуоккиниеми, сведения о ней он собрал путем расспросов у исполнительниц свадебных песен. Как и цикл рун о Вяйнямейнене, свадебный цикл остался неопубликованным.
Постепенно идея объединения рун становилась в сознании Лённрота все более масштабной, прежние циклы его уже не удовлетворяли, он стремился к более объемной и более концентрированной в сюжетном отношении циклизации.
Важным этапом на этом пути явился расширенный сборник рун о Вяйнямейнене, который впоследствии стали называть «Пра-Калевалой» (он был опубликован посмертно в числе других рукописных материалов Лённрота в исследовательских целях в 1891 г. и затем отдельным изданием в 1929 г.). Сборник состоял из шестнадцати рун и включал всего 5052 стиха. Хотя Лённрот именовал его «Собранием руно Вяйнямейнене», но здесь были и руны о других эпических героях, в том числе о Куллерво и его мести хозяйке Илмаринена за причиненную кровную обиду. Сборник был подготовлен Лённротом на основе трех прежних циклов — о Вяйнямейнене, Илмаринене, Лемминкяйнене — с добавлением новых материалов, собранных им осенью 1833 г.
Сохранился черновик письма Лённрота к доктору X. Каяндеру от 3 декабря 1833 г., в котором он сообщал о составленном им сборнике и о том, что в начале следующего года намерен «продолжить сбор рун до тех пор, пока не получится собрание, соответствующее половине Гомера».
В письме от 6 февраля 1834 г. профессору Ю. Г. Линсену (председателю Общества финской литературы) Лённрот указывал на другую аналогию — уже не только на Гомера, но и на песни древнеисландской «Старшей Эдды», которая также служила ему неким общепризнанным ориентиром в создании эпического свода из карело-финских рун. Рассказывая о своих составительских проблемах, Лённрот писал: «Особое внимание я уделял последовательности героических деяний, о которых говорится в рунах. Поначалу это казалось трудным, но в процессе работы все стало проясняться. Я опирался при этом и на прозаические рассказы, слышанные мною от старых людей в Архангельской губернии в виде сказок, в которых рассказывалось о тех же героических деяниях».
Рукопись сборника Лённрот направил Обществу финской литературы, но просил в письме не торопиться с его изданием, поскольку хотел дополнить его материалами, которые надеялся собрать в новой поездке. Упомянутые два письма Лённрота отражают его напряженные искания и творческую увлеченность; он живет взволнованным ожиданием того, что собранное фольклорное богатство должно вот-вот облечься в нечто монументальное, исторически значимое. И в то же время природная скромность побуждает его со всей строгостью задавать вопросы прежде всего самому себе, предъявлять к себе требования. «Вот только не знаю, — делился он своими сомнениями с Линсеном, — способен ли один человек объединить отрывки рун в единое целое, или это лучше сделать группе людей, поскольку последующие поколения, возможно, оценят его столь же высоко, как готские народы Эдду, а греки и римляне — если уж не как Гомера, то по крайней мере как Гесиода».
В дальнейшем мы еще вернемся к этим ссылкам Лённрота на гомеровские поэмы и древнескандинавскую «Эдду» в качестве сопоставительных образцов будущего карело-финского эпического свода. А сейчас чуть остановимся еще на «Пра-Калевале».
Лённрот снабдил сборник кратким предисловием, в котором высказал ряд мыслей, встречающихся затем и в других его выступлениях вплоть до предисловия к «Калевале» 1849 г. Прежде всего следует подчеркнуть, что ни в предисловии к «Пра-Калевале», ни в дальнейшем Лённрот ничего не скрывал в отношении принципов своей составительской работы. Превратное мнение, будто Лённрот умышленно мистифицировал общественность, якобы выдав «Калевалу» за собственно фольклорный эпос, стало некой сенсацией в умах малосведущих людей лишь гораздо позднее, на рубеже XIX—XX вв., отчасти под влиянием того, что сама фольклористическая наука к тому времени впервые вполне осознала различие между книжным эпосом и собственно устной традицией.
В предисловии к «Пра-Калевале» Лённрот указывал, что предлагавшиеся тексты рун составлены им из многих, иногда из пяти-шести, полевых вариантов, что ради композиционного единства он должен был «досочинять» некоторые эпизоды и соединительные связки между эпизодами. В качестве приложения к будущей книге Лённрот даже предлагал опубликовать полевые записи рун для сравнения. Что касается общей последовательности рун, то Лённрот, по его словам, руководствовался, во-первых, опытом самих рунопевцев (впрочем, исполнявших руны в разной последовательности) и, во-вторых, «естественным порядком» эпических событий. Лённрот вовсе не настаивал на том, что предлагаемая им композиция — единственно возможная. Считая ее одной из возможных, он готов был выслушать разумные советы и предложения.
Между прочим, это учла в своем отзыве на рукопись «Пра-Калевалы» и специальная комиссия, созданная для ее оценки в Обществе финской литературы. В отзыве, представленном в мае 1834 г., отдавалось должное усилиям Лённрота по собиранию фольклорного наследия, одобрялась идея единой композиции, но вместе с тем приковывалось внимание к тому, чтобы еще раз взвесить, «насколько естественным является предлагаемый доктором Лённротом порядок расположения рун и событий й нет ли какого-нибудь иного, более подходящего порядка, более соответствующего изначальному».
Последнее замечание о желательности «изначального порядка» в композиции рун подводит нас к так называемому «гомеровскому вопросу» в европейской науке — одному из центральных, когда речь идет о характере преемственной связи между устно-поэтической и книжно-литературной традициями.
В широком смысле «гомеровский вопрос» касается происхождения не только «Илиады» и «Одиссеи», но и вообще героических эпических поэм разных народов, таких как англосаксонский «Беовульф», скандинавская «Старшая Эдда», немецкая «Песнь о Нибелунгах», французская «Песнь о Роланде», испанская «Поэма о Сиде». Сюда же можно отнести и древнерусское «Слово о полку Игореве» (кстати, отрывки из «Слова» были переведены в 1840 г. на шведский язык в Финляндии Ю. Лундалем, который активно выступал как переводчик с русского, отчасти под влиянием Грота). В сопоставлении с мировыми эпосами нередко обсуждалась и «Калевала».
Общее состоит в том, что все упомянутые поэмы исторически возникли на стыке устной и раннелитературной традиций, с них, в сущности, начиналась та или иная национальная литература, и в то же время они основывались на устных героических песнях и сказаниях.
Лённрот чаще всего упоминал о Гомере, Гесиоде, «Старшей Эдде». С гомеровской «Илиады» и «Одиссеи», с «Теогонии» и «Трудов и дней» Гесиода обычно принято начинать историю не только древнегреческой, но и вообще мировой литературы. Без влияния «Илиады» едва ли обошлась хоть одна национальная литература, во всяком случае европейских народов. Вспомним слова Пушкина, сказанные в связи с появлением русского перевода «Илиады» Н. И. Гнедичем. О переводе Пушкин отозвался как о книге, «долженствующей иметь важное влияние на отечественную словесность».
К раннелитературным произведениям мирового значения относят и скандинавскую «Старшую Эдду», возникшую в иную эпоху, на грани язычества и христианства. В любом случае неизменно актуальным оставался вопрос о роли устной традиции в возникновении этих эпопей, о самом процессе перехода устной традиции в традицию книжно-литературную.
Эти вопросы, естественно, не могли не волновать Лённрота, составителя «Калевалы». Было только логично оглянуться на мировой опыт, для чего у Лённрота были неплохие возможности. Со школьных лет он изучал классические языки и продолжал занятия античной литературой в университете. Между прочим, профессором-античником был Ю. Г. Линеен, председатель Общества финской литературы, к которому Лённрот непосредственно обращался в своих письмах по поводу своих составительских планов и идей. Упомянем и о том, что Лённрот пробовал переводить отрывки из гомеровских поэм на финский язык. Он не мог не быть посвященным и в «гомеровский вопрос», который в европейской науке приобрел особую значимость в XVIII в., когда в ряде европейских стран, особенно в Англии и Германии, усилился интерес к фольклору и его роли в литературе, что мы видели на примере Гердера.
Как уже говорилось, центральным был вопрос о специфике и механизме исторической преемственности между фольклором и литературой. По «гомеровскому вопросу» спорили прежде всего о том, был ли Гомер реальной исторической личностью или же это был чисто мифический образ, тем более что уже в античные времена едва ли не каждый греческий город-полис считал Гомера своим уроженцем. Далее, принадлежат ли «Илиада» и «Одиссея» действительно одному автору или же они относятся даже к разным эпохам, к разным стадиям эволюции древнегреческого общества? И еще существенный вопрос: могли ли эти поэмы в их окончательном, то есть дошедшем до нас, виде вообще быть созданы в рамках устной традиции, одним или несколькими певцами? Не обстояло ли дело таким образом, что поэмам предшествовала длительная устная традиция в виде отдельных героических песен и сказаний, исполнявшихся многими поколениями певцов-рапсодов, и лишь позднее, с возникновением древнегреческой письменности, на этой фольклорной основе были созданы целостные эпические поэмы?
Впрочем, уже в древности высказывалось и такое предположение, что первоначально существовали все-таки сочиненные Гомером поэмы в устной форме, которые лишь потом распались на отдельные песни в исполнении рапсодов. Отзвуком подобного представления и была как раз выраженная в отзыве Общества финской литературы мысль о желательности максимального «изначального единства» в композиции рун — имелось в виду, что это некогда распавшееся единство следовало теперь по возможности и наилучшим образом восстановить, реконструировать. Подобное желание, высказанное Лённроту в мае 1834 г., не было простой оговоркой. Даже пять лет спустя Ю. Л. Рунеберг в одном из писем к Гроту (от 21 апреля 1839 г.) проводил аналогию между «Калевалой» и гомеровскими поэмами в том смысле, что все эти произведения были результатом относительно поздней реконструкции их первоначального вида, хотя сам Лённрот к тому времени уже отошел от такой точки зрения.
Произошло это, как обычно считается, под влиянием знакомства Лённрота с книгой немецкого филолога Ф. А. Вольфа «Предисловие к Гомеру» (1795). Книга эта получила резонанс в европейских странах, в связи с «гомеровским вопросом» стали говорить о «теории Вольфа», которая не могла не оказаться и в поле зрения Лённрота, предположительно еще до выхода в свет «Калевалы» 1835 г.
Как обнаружилось впоследствии, Ф. А. Вольф не был первооткрывателем изложенных им идей, а заимствовал их у ряда предшественников, в том числе у Гердера. Остановимся кратко на наиболее плодотворных идеях, высказанных еще до Гердера и касающихся преемственной связи между устной и письменной традициями применительно к гомеровским поэмам.
Одной из самых ранних вех была книга аббата д’Обиньяка, французского автора XVII в., опубликованная, однако, лишь через полвека после своего написания, в 1715 г., и без имени автора. Но и после ее выхода книга оставалась долгое время незамеченной — в числе первых, кто ее заметил, были как раз Гердер и Вольф. В книге д’Обиньяка содержалась мысль: «Илиада» — собрание песен, первоначально исполнявшихся в устной форме, но затем, с возникновением письменности, объединенных в целостную поэму. Певца-рапсода по имени Гомер как создателя «Илиады» (в устной форме) никогда не существовало. «Илиада» обнаруживает достаточно свидетельств того, что она не могла возникнуть изначально как единая поэма, в ней не чувствуется общего плана, строгой композиции. Объединяя разные песни, поздний составитель-редактор вводил от себя какие-то сюжетные связки, что-то изменял и согласовывал, но следы неувязок и противоречий все равно остались. По мнению автора книги, письменную форму «Илиада» обрела сначала при Ликурге (по преданию, греческий правитель IX в. до н. э.) и затем повторно при Писистрате (VI в. до н. э.). Обратим внимание на то, что здесь уже намечалось начало будущих споров между так называемыми «сепаратистами» и «унитаристами» на предмет того, насколько аморфной или компактной является «Илиада» по композиции и содержанию. Нечто аналогичное будет высказываться со временем и по поводу «Калевалы» Лённрота. В этом случае само ожидание от «Калевалы» максимального единства ассоциировалось с гомеровскими поэмами, и подобные же ассоциации возникали уже в сознании Лённрота.
Следующей вехой в истории «гомеровского вопроса» была книга выдающегося итальянского философа Джамбаттисты Вико «Основания новой науки об общей природе наций» (1725). В первом ее издании автор придерживался еще мнения, что Гомер как создатель «Илиады» был исторической личностью, но в повторных изданиях Вико подчеркивал уже роль общенародной устной традиции. Вико принадлежит утверждение: «Сами народы были тем Гомером; отсюда они также спорили из-за его родины». Согласно выдвинутой Вико теории исторического круговорота, каждый народ проходит в своем развитии через три эпохи: мифологическую, героическую и человеческую. В мифах действуют боги, в эпоху героев возникает героический эпос, в эпоху людей утверждаются философия и рациональное знание. В совокупности три культурных эпохи образуют цикл-круговорот и аналогичны периодам жизни человека — детству, юности, зрелости; человеческая старость ассоциируется с культурным упадком. Идеи Вико, связанные с «гомеровским вопросом», оказали далеко идущее влияние на понимание мифологии и героического эпоса в целом. Как это часто бывает, Вико не был понят современниками, но его оценили потомки — он намного опередил свое время и считается одним из создателей эстетики XIX в., сродни Гегелю по своим культурно-историческим идеям.
Опосредованно через Вико древнеэпические песни стали делить на мифологические и героические. (Напомним, что в первых же строках «Илиады» речь идёт о «бессмертных богах» и смертных героях.) Песни «Старшей Эдды» делятся на мифологические (о богах) и героические (о героях-людях). В этом же русле в Финляндии время от времени возникали споры о том, кто такой Вяйнямейнен — бог или герой. Магистерская диссертация Лённрота называлась «Вяйнямейнен — древнефинское божество».
Весьма распространенным стало мнение, что эпос принадлежит детству человечества. Гердер называл Гомера «посланцем древнего мира». Хотя Гердер и не ставил под сомнение существование личности Гомера, но рассматривал его всецело в рамках устной традиции, для которой была характерна импровизационная вариативность исполнения. Поэтому в понимании Гердера от «Илиады» и не следовало ожидать единой композиции, ибо она «представляет собой пример рапсодического построения». Гердер подразумевал длительную жизнь устной традиции, а когда «Илиада» была оформлена как письменный памятник (окончательно в эпоху Писистрата), это означало уже угасание рапсодического искусства, «огосударствление» эпического наследия — отныне оно официально исполнялось периодически во время празднеств, раз в пять лет. Через придание эпическому наследию официального статуса оно было спасено от забвения. Как отмечал Гердер, в письменной форме оно перешло в новую культурную среду, «попало в руки поэтов, софистов, ораторов, государственных деятелей и философов», эпос стали изучать в школах, он превратился в классику и достояние всех образованных людей.
Эти идеи о преемственности устной и письменной традиций накапливались в европейской науке, но обобщенным и концентрированным их выражением стала упомянутая книга Ф. А. Вольфа «Введение к Гомеру», вышедшая на латыни в 1795 г. Повторное ее издание на латыни же появилось в 1872 г., а в 1908 г. она была переиздана в немецком переводе и с обширным предисловием Г. Мухау, в котором обозревается ее влияние на европейскую мысль всего XIX в.
Дело в том, что книга Вольфа вызвала большой резонанс, она явилась своего рода сенсацией и откровением для очень крупных людей — например, Гете, Шиллера, братьев Шлегелей, Вильгельма фон Гумбольдта, философа Фихте и некоторых других. Книга была воспринята как некий рубеж и переломный момент в понимании гомеровских поэм. В этой связи упреки Вольфу, что он не ссылался на предшественников, следует принимать с известной оговоркой. Видимо, в науке вообще очень редко выдвигаются абсолютно новые идеи, которые в зачаточной форме и, может быть, в иной связи не высказывались бы уже раньше. Затем эти зачаточные идеи на новой стадии включаются в более целостную систему и помогают науке двигаться вперед. Похоже, нечто подобное произошло и с теорией Вольфа — она прочно вошла в историю науки и дискутировалась в течение многих десятилетий.
Когда речь идет о Лённроте и возможном влиянии на него вольфовской книги, необходимо отметить, что Вольф придавал своей теории универсальное значение, касающееся не только гомеровских поэм, но и вообще перехода от устной традиции к письменной литературе в истории разных народов. Сам Вольф указывал на примеры немецкого и арабского эпосов вплоть до Корана, а Г. Мухау в предисловии напоминает, что вскоре после книги Вольфа в свете аналогичных идей стала рассматриваться древнескандинавская, провансальская, сербская, карело-финская эпическая поэзия. В новейшей немецкой литературной энциклопедии подчеркивается в этом смысле «революционизирующее влияние» книги Вольфа, привлекшей внимание нетрадиционностью взглядов автора.
Вольф делал акцент на двух обязательных и взаимозависимых условиях возникновения «Илиады» и других национальных эпопей: 1) наличие предшествовавшей им длительной устной традиции в виде отдельных песен; 2) зарождение письменности, благодаря чему только и могли возникнуть целостные эпопеи. Хотя в «Илиаде», по словам Вольфа, не было и намека на то, что уже в троянскую эпоху могла быть письменность, однако сама эпопея была бы немыслима «без грифеля и грифельной доски».
Подобный взгляд означал, между прочим, и то, что возникновение «Илиады» в том виде, в каком мы ее знаем, не следовало смешивать с литературным авторством в современном смысле, ибо и в рамках письменной традиции оформление целостной эпопеи было многоэтапным и длительным процессом. Напомним, что уже после Вольфа в науке, наряду со спорами между «сепаратистами» и «унитаристами», была выдвинута и своего рода промежуточная «теория основного ядра», сторонники которой считали, что в «Илиаде» к основному ее содержанию делались поздние вставки, в результате чего целостность получилась относительная.
Книга Вольфа утверждала мысль о том, что эпопеи рождаются на стыке устной и письменной традиций и обусловлены их взаимозависимостью.
Если Гердер успел уже раньше освоиться с этой мыслью, в связи с чем книга Вольфа не особенно удивила его, то отношение Гете и Шиллера к ней было несколько иным. Она рождала у них двойственные чувства — и поражала своей новизной, и вызывала своей нетрадиционностью ностальгию по нарушенным привычным представлениям о Гомере и его поэмах.
Гете писал в своих «Анналах» об огромном впечатлении, произведенном на него книгой Вольфа, ибо ее автор «вызволил нас из плена гомеровского имени». Ностальгия же Гете по Гомеру рождалась тем, что сами гомеровские поэмы воспринимались им все же как поэтическая целостность, а не как композиция из разрозненных песен.
Аналогичным было впечатление Шиллера от книги Вольфа. Поэт написал несколько кратких стихотворений-эпиграмм, в которых ностальгия по цельному Гомеру сочеталась с иронией по адресу поздних компиляторов-«гомеридов», к которым он причислял и Вольфа-теоретика. Приведем несколько шиллеровских эпиграмм в прозаическом переводе. Обращение к тем, кто разрушал единство гомеровских поэм: «Гомера венок разрываете в клочья, ведете счет отцам, породившим вечно прекрасное творение! Но праматерь-родительница у творения одна-единственная, и лик у него материнский — твой лик, Природа!» Другая шиллеровская эпиграмма называлась «Вольфовский Гомер» и была обращена непосредственно к автору книги: «Своей жестокосердной критикой ты отстранил поэта, но через тебя же бессмертна вечно юная поэма». И еще одно шиллеровское двустишие, в котором поэт нового времени обращается к древнему поэту — лишь поэтам доступно таинство поэзии: «Верный древний Гомер! Тебе одному доверяю сокровенную тайну: о счастье любящих знает один лишь певец».
В этих мыслях и чувствах поэта выразилось примерно то же самое, о чем еще долго будут в связи с «гомеровским вопросом» спорить европейские ученые. Тем не менее книга Вольфа оставила свой след в науке. Как считает Г. Мухау, именно Вольф ввел в научный оборот понятие и термин «народный эпос», из чего следовало, что и «Илиада», связанная с народной традицией, не является обычным литературно-авторским произведением. Понятие «народный эпос» вскоре подхватил Якоб Гримм и сопоставил его с выдвинутым им понятием Kunstepos, т. е. литературно-авторский эпос. Если признаком народного эпоса было коллективное авторство (поэтому Гомера Гримм считал поэтом мифическим), то литературные эпопеи имели индивидуального автора.
Таким был в общих чертах, по мнению Гердера, Вольфа и их предшественников, путь древнего устного наследия в письменную литературу, новую культурную среду. Во всем этом было много общего с тем, что произошло с карело-финскими народными рунами два с половиной тысячелетия спустя после Гомера, в эпоху Лённрота и благодаря его усилиям. И поскольку Лённрот был так или иначе знаком с этими идеями и не мог не заинтересоваться ими, у него было над чем поразмыслить в процессе его собственной собирательско-составительской деятельности. Ведь Лённроту тоже предстояло спасти устное наследие от забвения, собрать и оформить руны в письменный памятник, ввести в национальную и мировую литературу.
Знакомство с тем, как создавались, по представлениям тогдашней науки, классические эпопеи, укрепляло в Лённроте моральное право поступать аналогичным образом. Он должен был, конечно, считаться со многими обстоятельствами. И «Илиада», и «Старшая Эдда» были древними памятниками не только по их фольклорным истокам, но и по письменному их оформлению. Причем уже по их стилю они были достаточно разные. Об «Илиаде» Н. И. Гнедич писал, что основные ее черты заключаются «в простоте, силе и важном спокойствии». По сравнению с размеренно-спокойным стилем «Илиады» стиль эддических песен более лаконичен и стремителен, отчасти напоминая балладную эстетику. Имея образцы перед глазами, Леннрот должен был выбирать, и стиль гомеровских поэм в конечном итоге больше привлекал его. От редакции к редакции у Лённрота наблюдалась нарастающая тенденция ко все более развернутому и подробному повествованию.
Но прежде всего Лённрот исходил из собранного им фольклорного материала, из специфики карело-финских рун. В период подготовки первого издания «Калевалы» он испытывал еще недостаток в материале. Как явствует из цитированного письма, завершение эпического свода «вполовину Гомера» Лённрот связывал с новой (пятой) экспедиционной поездкой, которая состоялась в апреле 1834 г. Несмотря на ее краткость, она оказалась исключительно результативной и плодотворной. В письме от 1 мая того же года Лённрот сообщал своему другу К. Н. Чекману: «Ты, по-видимому, знаешь, что повсюду в российских деревнях живут кучно. Например, в Ухтуа более восьмидесяти домов на одних пахотах, точно так же в Вуоккиниеми, Ювялахти и других. Так что можешь себе представить, сколько рун мне удалось собрать за поездку. Записал много новых рун о Вяйнямейнене и добавлений к старым».
Всего за пятую — одиннадцатидневную — поездку Лённрот записал 239 фольклорных произведений, в том числе эпических рун, заклинаний, лирических песен, общим объемом в 13 200 стихов. Это было больше, чем за все предшествующие четыре поездки. Только записи от Архипа Перттунена составили 4100 стихов. И хотя большинство сюжетов было уже известно Лённроту, однако варианты Архипа отличались художественным уровнем. В числе новых сюжетов была руна об Ахти и Кюлликки, вошедшая в «Калевалу».
К лету 1834 г. собственные фольклорные записи Лённрота за пять поездок насчитывали 646 вариантов (25 700 стихов), из них около половины составляли эпические руны. Записи других собирателей к тому времени составили 2200 стихов и в публикациях имелось около 10 000 стихов. Таким образом, всего в распоряжении Лённрота при окончательном составлении «Калевалы» в редакции 1835 г. было около 40 000 стихов, из них эпических рун 17500 стихов и столько же заклинательной поэзии. Примерно половина общего количества записей была сделана в Беломорской Карелии, другая половина — в финском Приладожье, провинции Саво и Приботнии. Все это приводится по подсчетам В. Кауконена, автора многих исследований по «Калевале».
Сразу же после пятой поездки Лённрот выехал в Хельсинки, чтобы дополнить и переработать рукопись прежнего свода рун о Вяйнямейнене («Пра-Калевалу»). Затем работа продолжалась в Каяни и протекала весьма напряженно. В ноябре 1834 г. новая редакция была практически уже готова, оставалось переписать ее набело и закончить предисловие. Именно эта редакция впервые получила название «Калевала». Лённрот работал без устали, наконец к февралю 1835 г. все подходило к завершению, и он сообщил в письме: «С рунами было много трудов, но я не сожалею, лишь бы на пользу пошло».
Предисловие к «Калевале» Лённрот датировал 28 февраля 1835 г. и передал рукопись в печать. Она была издана двумя частями. Первая часть поступила в продажу к Рождеству 1835 г., вторая в марте следующего. Тираж был невелик — 500 экземпляров. В награду за труды Лённрот получил бесплатно 50 экземпляров.
Тираж был скромным, но не тиражом определялось значение вышедшей книги, ставшей этапным событием в истории финской культуры.
День 28 февраля ежегодно отмечается в Финляндии как День «Калевалы» — в память совместного творчества Элиаса Лённрота и народных певцов.
«КАЛЕВАЛА» 1835 г. И ОТКЛИКИ НА НЕЕ
По сравнению с рукописной «Пра-Калевалой» первое издание эпоса более чем вдвое увеличилось в объеме — в нем насчитывалось 12078 стихов вместо прежних 5052. Кроме того, около ста страниц составляло приложение, в котором приводились отрывки и отдельные стихи из вариантов, отличавшихся от основного текста.
В «Пра-Калевале» текст подразделялся на шестнадцать песен — Лённрот употреблял финский неологизм laulannot, не привившийся в литературном языке. В том, что Лённрот прибег к слову «песнь» и придумал для этого особое новообразование, исследователи усматривают влияние «Илиады» — там тоже были песни (двадцать четыре).
В книжной «Калевале» 1835 г. вместо «песен» было тридцать две руны — слово runo показалось теперь Лённроту более приемлемым. В финском языке оно означает и древнюю руну (которая пелась), и современное стихотворение. Двоякая семантика была уместной: возникавший из рунопевческой традиции книжный эпос предназначался уже не для пения, а для чтения в качестве поэтического текста.
В общих чертах сюжетно-композиционная схема «Пра-Калевалы» сохранилась и в первом издании «Калевалы», хотя были, разумеется, и существенные изменения и дополнения, причем не только в смысле нарастания подробностей и общего объема.
Уже «Калевала» 1835 г. включала пролог и эпилог, чего не было в «Пра-Калевале». Это придавало поэме более целостный вид. Пролог и эпилог были скомпонованы Лённротом из так называемых «песен о песнях» — в них рунопевцы традиционно пели о том, откуда они научились своему искусству.
В книжной «Калевале» пролог и эпилог как бы обрамляли все ее содержание, все тридцать две руны, объединяя их в целостность. Через пролог и эпилог в «Калевалу» вводился образ певца-повествователя, функция которого затем еще более усилится в расширенной композиции «Калевалы» 1849 г.
По сравнению с «Пра-Калевалой» в первом издании эпоса произошли некоторые сюжетные перестановки, в результате чего устранялись формально-логические противоречия в очередности событий. В «Пра-Калевале» повествование начиналось с эпизода вражды Ёукахайнена и Вяйнямейнена и только затем следовал эпизод возникновения мироздания. Этот порядок остался и в первом издании «Калевалы» (он был изменен в расширенной редакции 1849 г.), но обоим эпизодам теперь предшествовал эпизод рождения Вяйнямейнена как исходная точка всех дальнейших событий. В расширенной редакции 1849 г. этот начальный эпизод приобретает еще более подчеркнутый космогонический смысл.
Для усиления сквозного композиционного единства в первом издании «Калевалы» важным было то, что если первая руна начиналась с эпизода рождения Вяйнямейнена, то в последней руне завершающим был эпизод рождения чудесного младенца, в котором узнавался образ Христа. После этого события Вяйнямейнен уходит, и его уход символизирует конец языческой эпохи. Таким образом, языческая мифология, вплотную соприкоснувшись с христианской, как бы отступает, исторически исчерпывает свою главенствующую роль.
В дальнейшем — в связи с расширенной редакцией «Калевалы» 1849 г. — будет подробнее сказано о том, что Лённрот в своей композиции вводил языческое наследие в определенную историческую перспективу. Несмотря на свой уход, Вяйнямейнен в «Калевале» думает о будущих поколениях, которые унаследуют и прошлую культуру. Уже в предисловии к первому изданию «Калевалы» Лённрот подчеркивал это, сравнивая во многом контрастные образы Вяйнямейнена и Лемминкяйнена: первый наделен мудрой прозорливостью и заботами о будущем, тогда как второй при своей отчаянной отваге и юношеском легкомыслии лишен этих качеств.
Сейчас подчеркнем только следующее: поскольку главной целью композиции Лённрота было изображение именно языческой эпохи, а заключительный эпизод рождения святого младенца является как бы вехой, указывающей на дальнейшую перспективу, постольку Лённроту представлялось оправданным устранить из остальных эпических сюжетов «Калевалы» те явные христианские влияния, которые встречались в собственно фольклорных вариантах. Исключение делалось только для заключительной руны. В остальном же Лённрот проявлял редакторскую предосторожность. В народных вариантах могли встречаться, наряду с языческими божествами и героями, упоминания о Спасителе, библейских апостолах, церковных святых, церквах и священниках. Но все это Лённрот считал поздними влияниями, не подходящими для его композиции, что и отмечалось в предисловии к «Калевале» 1835 г. Стремясь не допускать анахронизмов, Лённрот устранял из рун и такие поздние по происхождению (но встречающиеся в фольклорных вариантах) слова, как ружье, кофе и т. д. В «Калевале» стреляют из лука, охотятся или сражаются копьем и мечом, во время застолий пьют пиво, о древнем происхождении которого есть особый сюжет.
Из новых эпизодов, которыми Лённрот обогатил первое издание «Калевалы» (и которых не было в «Пра-Калевале»), назовем следующие. В цикл рун о Лемминкяйнене вошел сюжет об Ахти и Кюлликки. К прежним двум именам героя — Лемминкяйнен, Каукамойнен — прибавилось третье: Ахти. В тексте «Калевалы» имена варьировались, но подразумевалось одно лицо — имена стали как бы синонимами, герой был с тройным именем. В фольклорных вариантах имена обычно выступают раздельно и герои подразумеваются разные. В «Калевале» сквозной сюжет требовал унификации основных героев и имен. Руна об Ахти и Кюлликки относится к так называемым викинговским сюжетам, герой-ревнивец уходит от жены на войну. Вместе с тем, это «семейный» сюжет, близкий к балладному жанру. В результате объединения разных сюжетов в единый цикл рун о Лемминкяйнене образ героя получался многослойным, в нем сочетались разные исторические и мифологические пласты — весьма архаические и относительно поздние. Подобное характерно до некоторой степени и для собственно фольклорных вариантов, но в «Калевале» это еще более усиливается в результате объединения разновременных сюжетов. В образе Лемминкяйнена сочетается и древний маг-волшебник, и воин-викинг. Руны о Лемминкяйнене пополнились и новыми эпизодами, связанными с так называемыми «трудными задачами», которые герою даются при сватовстве и которые он решает магическими средствами.
Традиционных «трудных задач» прибавилось и в цикле рун о Куллерво. В этот же цикл были включены два викинговских сюжета: об уходе героя на войну и его прощание с родными. Цикл рун о Куллерво существенно пополнится в «Калевале» 1849 г., где он разрастется в трагическое повествование о судьбе раба-бунтаря.
Уже в композиции 1835 г. значительное место занимала заклинательная и лирическая поэзия — последняя в виде значительного цикла свадебных песен. В предисловии Лённрот обратил на это особое внимание. В соединении эпики, заклинаний и лирики в одной композиции он не видел ничего предосудительного, в самом фольклоре жанровые различия не были для него абсолютными. В одном из набросков к предисловию он даже утверждал, что изначально жанры были «родными братьями» — с этим перекликается в предисловии к лирической антологии «Кантелетар» мысль Лённрота о том, что в древних песнях мелодия и слово были «родными сестрами», выступали слитно и что только в современной книжной поэзии текст существует отдельно, вне мелодии.
Лённрот хорошо осознавал, что в его композиции присутствуют как бы два уровня повествования: 1) мифологический и космологический; 2) бытовой, включающий описания охоты, хозяйственных занятий, свадеб и т. д. В предисловии к «Калевале» 1835 г. Лённрот задавался вопросом, не противоречат ли эти два уровня друг другу, совместимы ли они, не уподобляется ли его композиция по этой причине современному литературному повествованию (которое Лённрот в скобках называл «романным»). Косвенно с этим был связан традиционный, многократно дискутировавшийся вопрос: кто такие эпические герои — боги или люди?
Едва ли справедливо приписывать Лённроту слишком однозначный ответ на этот вопрос, как это иногда встречается в научной литературе о нем: дескать, Лённрот «вычитывал» в рунах доподлинную историю, а не мифологию. Да, Лённрот усматривал в рунах исторические отражения, но ведь он пользовался и понятием «мифологические руны», говорил о мифологической космологии. Однозначный ответ на указанный вопрос был затруднен уже потому, что фольклорно-мифологические образы претерпели весьма длительную эволюцию, и с этой точки зрения можно сказать, что они — и боги, и люди.
Лённрот отмечал в предисловии и мифологическую, и человеческую природу эпических героев. Он говорил, что от рун польза и для финской мифологии, и для получения представления о вполне земных формах народной жизни. В рунах фигурировали великаны явно мифологического происхождения, но в то же время Лённрот усматривал в великане Калева некий мифологический прообраз первопредка первых поселенцев в Финляндии в далекие полумифологические-полуисторические времена. О Вяйнямейнене Лённрот рассуждал таким образом, что хотя его и принято было считать божеством, но в рунах он выступает и как человек, в земном облике, и преисполнен при этом чисто человеческого достоинства. По характерному выражению Лённрота, «уж лучше быть добропорядочным крестьянином, чем плохим господином; лучше разумный человек, чем деревянный идол».
Следует при этом учитывать, что помимо склонности к некоторой историзации эпических персонажей Лённрот ведь должен был решать и чисто художественные задачи — создавать на фольклорном материале живые типы эпических персонажей. Невозможно было бы наполнить весьма объемную композицию достаточным жизненным и поэтическим содержанием без того, чтобы сообщить архаическим эпическим героям, наряду с магическими и мифологическими чертами, вполне земные черты, в меру очеловечить их и не превратить в «деревянных идолов». По этому пути Лённрот шел уже в «Калевале» 1835 г., и еще дальше он продвинулся в избранном направлении в расширенной редакции.
Как писал Лённрот в предисловии к первому изданию «Калевалы», он не считал свою работу на той стадии вполне законченной. Во-первых, еще не собран был весь возможный фольклорный материал; у Лённрота было убеждение, что многое можно будет еще собрать. Во-вторых, и в композиционном отношении у Лённрота оставались сомнения, он ожидал критики и советов, был готов выслушать мнения, внести поправки и дополнения. Но откладывать дальше издание было уже невозможно — этого не позволяли неотложные национально-культурные цели. Нация должна была узнать о своих фольклорных богатствах, о своем культурном наследии. В предисловии Лённрот писал, что вложил в «Калевалу» много труда, но работал с радостью и охотой, ему не было нужды насиловать себя. И, естественно, теперь он с волнением ожидал, как будет встречен его труд.
Более детальный анализ содержания и эстетики «Калевалы» будет предложен в связи с ее расширенной редакцией 1849 г., а сейчас остановимся на том, как было воспринято первое ее издание. Ибо наибольшим откровением как для самих финнов, так и для европейской общественности явилось именно первое издание 1835 г. — можно даже сказать, что это было крупнейшее открытие, крупнейшая сенсация в истории финской культуры. Казалось почти невероятным, что в недрах неведомого прежде народа таились такие фольклорные богатства. И не менее удивительным было то, что до тех пор о них мало кто знал.
Здесь опять-таки следует иметь в виду сложную национально-культурную ситуацию, чтобы правильно понять восприятие «Калевалы» в самый момент ее появления.
С одной стороны, были бурные восторги, исходившие даже от тех, кто книги пока толком и прочитать не мог из-за недостаточного знания языка; и таких тогда было большинство. Уже один слух о том, что у финнов появился свой национальный эпос, способен был вызвать восхищение, особенно среди патриотического студенчества. Слишком заждалась пробуждавшаяся нация своего культурного самоутверждения, слишком остро переживала она свою многовековую ущемленность, чтобы патриотически настроенным молодым умам теперь можно было воздержаться от восторга. Студенты в ту пору вообще выражали свои чувства довольно бурно и не совсем обычно для нашего прозаического времени. Была жива традиция исполнения уличных серенад под окнами квартир почитаемых — именно почитаемых — университетских профессоров и наставников. (Под окнами неугодного профессора студенты могли устроить и настоящий «кошачий концерт».) Еще долго соблюдался и такой обычай, когда чествуемого поэта или культурного деятеля студенты усаживали в почетное кресло и на поднятых руках торжественно обносили вокруг зала. Подобные почести оказывались уже тогда Ю. Л. Рунебергу, входившему в славу первого национального поэта, они предстояли и Лённроту.
А с другой стороны, язык «Калевалы» был чрезвычайно труден для восприятия — нередко даже для тех, кто считал себя знатоком финского языка. Это ведь был архаический язык, тесно связанный с мифологией, со специфическим народным бытом и диалектной лексикой. Кроме того, отличие архаического языка «Калевалы» от тогдашнего литературного финского языка усугублялось еще и тем, что книжный язык, начиная с Агриколы, ориентировался в основном на западнофинские диалекты, тогда как «Калевала» отражала карельские и восточнофинские диалекты. И хотя «Калевале» суждено было тем самым обогатить литературный финский язык, расширить его диалектную базу, однако произошло это не сразу, для оформления так называемого новофинского литературного языка требовалось время.
В «Калевале» Лённрот стремился унифицировать язык рун, преодолеть диалектный разнобой (характерный и для восточных диалектов), чтобы в какой-то мере приблизиться к литературным нормам. Но и после этого лексика и эпический стиль «Калевалы» оставались весьма специфичными. К тому же и единые нормы литературного финского языка тогда еще не вполне сложились — ни фонетические, ни орфографические, ни морфологические. Не только составительские, но и чисто языковые задачи, стоявшие перед Лённротом, вовсе не были простыми, многое он должен был решать самостоятельно и самолично, опираясь на свое языковое чутье, хорошее знание диалектов, свободное владение огромным фольклорным материалом и спецификой эпического стиля. В результате длительной работы с материалом в его памяти отложились десятки тысяч строк, он мог все свободнее комбинировать их — без такой свободы и раскованности та составительская работа, которую он проделал, была бы невозможна.
Но у потенциальных читателей «Калевалы» такого опыта не было. И читательский путь к «Калевале» был нелегок. А. Анттила приводит в своей книге некоторые характерные отзывы современников, сетовавших на трудность языка «Калевалы». Вскоре после ее выхода Ю. В. Дурхман писал Лённроту, что следовало бы дать в книге пояснения многих народных слов, смысл которых часто не прояснялся даже из образно-варьируемых повторов. Между тем пастор Дурхман сам собирал народную лексику и фольклор, поддерживал контакты с Лённротом и Кастреном, так что его никак нельзя было отнести к самым неподготовленным читателям «Калевалы». Другой современник Лённрота, В. Шильд-Килпинен, также считавшийся знатоком финского языка, тем не менее признавался — даже после того, как прошло уже десять лете выхода первого издания эпоса: «Руны для меня — во многом потемки, о смысле могу чаще всего только догадываться, но полностью не понимаю». Профессор А. Шауман вспоминал о том времени: «Широкого читательского круга у «Калевалы» не было; говорили, что ее язык непонятен даже для тех, кто знал по-фински. Только постепенно, через переводы и истолкования, открывалось ее содержание. Каждый испытывал, однако, чувство гордости от сознания, что есть такое национальное сокровище. В результате и на финский язык стали смотреть несколько иными глазами».
Последняя фраза весьма примечательна и свидетельствует о культурно-психологическом влиянии «Калевалы», что в тех условиях было чрезвычайно важно. По-настоящему образованным людям больше нельзя было пренебрегать финским языком как чем-то «второсортным» в культурном отношении. Из уст юношества раздавались даже покаянные голоса, некоторые студенты начали изучать финский язык. Примечательна дневниковая запись юного С. Топелиуса-младшего, будущего поэта, сказочника и исторического романиста. В пору выхода «Калевалы» ему не было еще и восемнадцати, он вспоминал в этой связи фольклорные публикации своего отца и писал со смешанным чувством восторга и самоупрека: «Вышла новая книга — «Калевала»! Как обрадовался бы отец, увидев ее. А вот ты, его непутевый сын, не можешь прочитать даже отцовских книг. Стыдно!» С помощью М. А. Кастрена ознакомившись с одной руной из «Калевалы», Топелиус дал себе обет выучить финский «даже через силу». Добавим к этому, что впоследствии Топелиус, имея уже большой авторитет как детский писатель, обратился публично к финским матерям, особенно к образованным семьям, в которых преобладал шведский язык, с призывом, чтобы с детьми говорили по-фински.
Показательна роль «Калевалы» в судьбе М. А. Кастрена. Он родился в семье младшего священника, рано осиротел, много бедствовал, но уже в старших классах лицея обнаружил незаурядные лингвистические способности. В университете он сначала изучал восточные языки, готовясь занять должность доцента по этому профилю. Но с выходом «Калевалы» двадцатидвухлетний Кастрен воодушевился ею и решил заняться изучением карело-финского фольклора с лингвистической и мифологической точек зрения. Вместе с тем в его исследовательской судьбе это явилось решительным поворотом к изучению вообще языков и этнографии финно-угорских (и уральских) народов в самом широком плане. В 1838 г. Кастрен совершил свою первую поездку к финляндским саамам, в следующем году побывал в Беломорской Карелии, а в 1842 г., как уже упоминалось, вместе с Лённротом они вновь обследовали Карелию, Лапландию, Кольский полуостров и затем расстались в Архангельске, откуда Кастрен отправился уже один дальше на восток.
Одновременно Кастрен перевел «Калевалу» на шведский язык, с его предисловием перевод вышел в 1841 г. В той языковой обстановке, о которой говорилось выше, этот первый перевод «Калевалы» имел значение прежде всего для финской интеллигенции, открывал ей путь к эпосу и стал необходимым пособием по его изучению. А наряду с этим «Калевала» через перевод Кастрена становилась известной за рубежом, в особенности филологам-скандинавистам и германистам.
В своем предисловии к переводу «Калевалы» Кастрен, излагая ее содержание, высказал ряд актуальных для того времени идей. Основываясь на своих собственных экспедиционных наблюдениях, он, подобно Лённроту, допускал мысль о том, что уже в рамках устной традиции руны в исполнении некоторых певцов могли объединяться в сюжетные циклы (цикл рун о Сампо или циклы о поездках эпических героев в Похъёлу). Как мифолог, Кастрен хорошо осознавал мифологическую основу архаических рун. Он не считал карело-финскую мифологию особенно развитой — ее архаичность выражалась именно в том, что она пребывала преимущественно на уровне магических заклинаний. Кастрен обратил особое внимание на магическую семантику фольклорной лексики (таких слов, как песня, руна, слово и т. д.). В мифологических рунах Кастрен не склонен был усматривать каких-то достоверных исторических реалий. По его словам, в мифах не следует отыскивать «никакой иной действительности, кроме мифологической». Мимоходом Кастрен коснулся и некоторых специфических вопросов перевода древней поэзии. Трудности, по его мнению, возникали главным образом из-за того, что современное сознание и современный язык рационалистичны, во всем предполагается и ценится рассудочность, логическая мысль, тогда как народная поэзия чуждается этого. «Какое дело рассудку до того, как шумит ветер, как поет жаворонок или журчит ручей, — ведь во всем этом нет никакой мысли», — не без горечи писал Кастрен. Современный поэтический слух отвык и от аллитерированного стиха (между прочим, некогда распространенного и в древнескандинавской и древнегерманской поэзии). И тем не менее перевод «Калевалы» Кастреном сыграл свою роль — и в Финляндии, и за ее рубежами.
Еще до появления перевода Кастрена, вскоре после выхода «Калевалы» в оригинале, в европейской печати — шведской, немецкой, французской, английской, русской — появились первые сообщения об этом культурном событии.
В европейской науке заметной вехой был устойчивый интерес Якоба Гримма к карело-финскому фольклору и к «Калевале». Как показал немецкий автор Эрих Кунце, специально исследовавший этот вопрос, Якоб Гримм еще в начале 1820-х гг. заинтересовался имевшимися к тому времени изданиями по карело-финскому фольклору. Ему были известны сборник Г. Р. Шрётера «Финские руны», книга А. Шёгрена «О финском языке и литературе», более ранние работы X. Г. Портана, К. Ганандера и других финских авторов. В поле зрения Гримма были также выпуски сборника «Кантеле» Лённрота, а «Калевалу» он знал в оригинале и в шведском переводе Кастрена.
Якоб Гримм — языковед, фольклорист, мифолог, основатель сравнительной германистики — нуждался в своих исследованиях в широком сравнительном материале, с привлечением фольклорно-мифологического наследия разных народов. Одних письменных памятников — «Песни о Нибелунгах», «Эдды», «Илиады» — было недостаточно, Гримма интересовала также живая устная традиция, те древние по своему происхождению песни и сказания, которые лишь недавно были записаны и открыты для науки. Из наследия славянских народов Гримма привлекал сербский фольклор в записях и публикациях Вука Караджича, известного деятеля сербского национального возрождения. (Напомним, что сборник сербских народных песен в немецких переводах, изданный в 1827 г. в Петербурге П. О. Гётцем, оказал сильное влияние на раннюю лирику Ю. Л. Рунеберга, он перевел их на шведский язык и издал в 1830 г.). Сербский эпос был к этому времени уже широко известен в Европе (вспомним хотя бы литературно опосредованный интерес к песням южных славян у Мериме и Пушкина). И столь же впечатляющим открытием для Гримма явилась карело-финская эпическая поэзия. В деятельности и публикациях Караджича и Лённрота он видел нечто аналогичное как в научном, так и в культурно-историческом смысле — и у сербов, и у финнов речь шла о национальном возрождении.
Вместе с тем в сербских песнях и карело-финских рунах Гримм усматривал нечто аналогичное с точки зрения стадиальной эволюции самой эпической традиции. В своем докладе о «Калевале», прочитанном в 1845 г. в Берлинской академии наук, Гримм рассуждал примерно таким же образом, как в свое время Дж. Вико о мифологической — героической — человеческой стадиях развития культуры. При своей относительной устойчивости эпическая традиция тем не менее постепенно эволюционировала и изменялась. Древнейшие мифы о богах уступали место эпическим сказаниям о героях. В немецкой «Песне о Нибелунгах», по словам Гримма, архаическая мифологическая основа почти совсем уже истаяла. В «Илиаде» и скандинавской «Старшей Эдде» боги еще присутствуют, но все же на переднем плане — герои в облике людей. В связи с этим Гримм писал: «Поскольку у готов и других германских народов героические песни от самых далеких времен уже не звучат, я в своих поисках разных образцов эпической поэзии не мог обойти вниманием сербские песни, красота которых очевидна каждому. Но несколько лет назад я был поражен новым явлением, заслуживающим того, чтобы приковать к нему общее внимание».
Этим новым явлением для Гримма стали карело-финские руны и «Калевала». Между прочим, он был достаточно информирован и понимал, что принятое тогда выражение «финский эпос» было условным, что архаические руны были обнаружены и записаны не по всей Финляндии, а только на востоке, преимущественно же в российской Карелии. Понятие «финская народная поэзия» часто подразумевает фольклор прибалтийско-финских народностей в целом — так этим понятием пользовался и Лённрот, равно как и многие последующие фольклористы.
Как представитель мифологической школы в фольклористике, Гримм истолковывал соответствующим образом и «Калевалу». Сквозь живую бытовую реальность в ней просматривалась, по его словам, весьма архаическая мифологическая основа. Героям присущи человеческие слабости, они терпят неудачи, горюют и плачут, но тем явственнее проступают в них магические черты божеств, их магическая сила в преодолении препятствий. Гримм усматривал в образе Ахти божество воды и высказал предположение, что Илмаринен был изначально божеством огня, Вяйнямейнен — божеством земли, то есть они олицетворяли мифологические первостихии.
В соперничество и противостояние двух эпических стран — Калевалы и Похъёлы — Гримм вкладывал многозначное содержание. Древнейшая основа опять-таки была мифологическая: борьба-противостояние света и тьмы, юга и севера (Похъёла — Страна Севера). Наряду с этим Калевала предстает в рунах страной великанов, «сынов Калевы», которых Гримм сопоставлял с великанами-ётунами в скандинавском эпосе, полагая, что в эддических песнях под мифологической страной ётунов подразумевалась как раз Финляндия. В «Калевале» же, по Гримму (и по Лённроту), Финляндия ассоциировалась с родиной калевальцев, а под Похъёлой подразумевалась Лапландия. Соперничество калевальцев и обитателей Похъёлы Гримм сравнивал с противостоянием ахейцев и троянцев в «Илиаде».
Таким образом, наряду с мифологической основой в «Калевале» отыскивались и некие географические и исторические реалии. Это было характерно и для Лённрота, и для Гримма, хотя и с некоторыми отличиями. Если Лённрот создавал целостную эпическую поэму на архаической фольклорной основе, но с ощутимой обращенностью к проблемам современного национального возрождения, подчеркивая в большей степени человеческие черты героев, то Гримму как мифологу была важна прежде всего мифологическая основа «Калевалы». Но и он не отрицал исторических отражений. Например, в фантастическом образе волшебной мельницы Сампо (изготовляемой в рунах «из одного ячменного зернышка, из капли коровьего молока, из овечьей шерстинки») Гримм находил отражение хозяйственных занятий людей: земледелия, скотоводства, ткачества. Как увидим в дальнейшем, сам Лённрот несколько позднее истолкует образ Сампо в более последовательном историко-эволюционном духе как отражение стадиального развития — от охоты и рыболовства (более первичных форм жизнеобеспечения) к земледелию и скотоводству.
Гримм еще не придавал особого значения тому, что в «Калевале» Лённрот не просто публиковал народные руны, а обрабатывал и объединял их в единую композицию. В фольклорности «Калевалы» Гримм не сомневался и особо подчеркивал ее превосходство в этом отношении перед стилизованными песнями Оссиана. «Чувствительный Оссиан, — писал Гримм, — ни в чем не поможет истолкованию наших немецких древностей, тогда как финский эпос поможет во многом, и это вернейшая проба подлинности того и другого».
Кроме обширного доклада о «Калевале», Гримм многократно ссылался на карело-финские руны в других своих работах, в том числе в многотомной «Немецкой мифологии». Его заслуга состоит в том, что он одним из первых в европейской науке оценил «Калевалу» как поэтический памятник огромного художественного и научного значения. Он восхищался эпической простотой и живописностью образов, богатством содержания, строгостью стиля.
Доклад Гримма, как и некоторые другие отклики на первое издание «Калевалы», оказал определенное влияние на Лённрота при подготовке расширенной ее редакции.
Дарственный экземпляр своего опубликованного доклада Гримм послал Лённроту. В ответном письме (кстати, написанном по-фински) Лённрот благодарил Гримма и от себя лично, и от имени всех финнов за то, что своим авторитетом крупнейшего европейского ученого он достойно представил международной общественности финскую народную поэзию и сам финский язык, которые в самой Финляндии еще не всегда должным образом оценивались. Лённрот сообщил Гримму, что в Финляндии его доклад уже переводился на шведский язык для публикации.
Как уже упоминалось, доклад Гримма был опубликован также в русском переводе в мартовском номере «Журнала министерства народного просвещения» за 1846 год. «Калевала» в это время становилась известной в России. На русском языке краткое изложение ее содержания (со стихотворными переводами некоторых отрывков) дал Я. К. Грот в своих статьях 1840-х гг. Познакомить русского читателя с «Калевалой» стремились и сами финны. В 1847 г. в Хельсинки А. М. Эман издал на русском языке свое сокращенное прозаическое переложение эпоса (книга называлась «Главные черты из древней финской эпопеи «Калевалы»). К сожалению, автор книги не владел в достаточной степени русским языком, и о поэтическом содержании «Калевалы» она давала весьма неполное представление.
Для европейских читателей существенное значение имел прозаический перевод первого издания «Калевалы» на французский язык, выполненный Л. А. Ледюком и вышедший в 1845 г. в Париже двумя томами с обширными дополнительными материалами о Финляндии. Развернутое заглавие книги звучало так: «Финляндия, ее древняя история, мифология, эпическая поэзия с полным переводом ее великой эпопеи». Автор книги, еще молодой человек, прожил до этого два года в Хельсинки, служа гувернером в семье графа В. А. Мусина-Пушкина (сына А. И. Мусина-Пушкина, президента Академии художеств и знаменитого издателя «Слова о полку Игореве») и приобрел с помощью финских знакомых необходимые знания о Финляндии и «Калевале». Кстати, о молодом Ледюке довольно часто упоминает в своих письмах к П. А. Плетневу Я. К. Грот, встречавшийся с ним на приемах в хельсинкском доме Мусиных-Пушкиных. Во Франции книга Ледюка имела успех, на нее откликнулись известные его соотечественники, в том числе Виктор Гюго, Альфонс Ламартин, Проспер Мериме. Отметим и то, что наряду со шведским переводом Кастрена французский перевод Ледюка до сих пор остается единственным переводом первого издания «Калевалы» на иностранные языки.
Позже Ледюк еще дважды (в 1846 и 1850 гг.) побывал в Финляндии, изучал финский язык и с выходом расширенной редакции «Калевалы» приступил к ее полному прозаическому переводу, в чем, по его словам, ему помогали советами М. А. Кастрен, Фр. Сигнеус и К. Г. Борг. Перевод был издан в Париже в 1867 г. и переиздан в 1879 г. Книги Ледюка были в какой-то мере известны также в России, о них упоминалось в русской печати.
Сохранилось большое письмо Лённрота к Ледюку от 30 марта 1851 г., которое было ответом на письмо последнего от 19 октября 1850 г. Ледюк был занят переводом «Калевалы» и нуждался в дополнительной информации. Лённрот в ответном письме касался ее фольклорной основы, мифологического содержания, особенностей языка и вдобавок советовал прочитать предисловия к изданиям «Калевалы», опубликованные статьи о ней, в том числе статьи Р. Тенгстрёма. Обращает на себя внимание то, что Лённрот в письме (как и двадцать с лишним лет до того, еще в 1829 г., в рецензии на публикацию С. Топелиуса-старшего) вновь посчитал необходимым подчеркнуть подлинность народных рун, отсутствие всякой произвольной подделки и мистификации, — видимо, сама литературная атмосфера того времени все еще располагала к подобного рода сомнениям. По отношению к «Калевале» сомнения в подлинной ее народности означали бы, как писал Лённрот, что-либо из двух: либо преднамеренные искажения были допущены еще при записи рун от певцов, либо составитель что-то исказил, выстраивая руны в единую композицию. Далее цитируются контраргументы Лённрота: «Что ничего подобного не произошло, — писал Лённрот, — в этом может убедиться каждый, кто пожелает посетить те места, где руны были записаны. Все, что содержится в «Калевале», бытовало в народе до ее появления, бытовало в той или иной местности, и это бытование было традиционным, отнюдь не заученным из какой-нибудь книги или рукописи, потому что ни книг, ни рукописей в тех краях и не бывало, а если бы даже были, все равно жители деревень Архангельской и Олонецкой губерний не смогли бы ими воспользоваться по причине своей неграмотности. Между тем руны сохраняются большей частью именно там, в их среде; да, именно так вот обстоит дело: все, что есть в «Калевале», не только бытовало среди тамошних крестьян до ее появления, но и сейчас может быть собрано повторно новыми поколениями, было бы только желание странствовать и общаться с народом».
Как свидетельствует это письмо, позиция Лённрота оставалась неизменной: литературная обработка рун в «Калевале» не отменяла их подлинной народности. На собственное авторство он не претендовал, приоритет отдавал народу и свое участие понимал как сотворчество.
То, что Лённрот воздержался от индивидуального авторства и не выставил на обложке «Калевалы» своего имени, нельзя объяснить лишь одной его скромностью и отсутствием авторского честолюбия, равно как и влиянием на него тогдашнего окружения, поскольку-де ожидали от него именно национального эпоса, а не индивидуальной поэмы. Скромность скромностью, но она согласовывалась с более глубокими соображениями: Лённрот осознавал так или иначе, интуитивно и умозрительно, культурно-историческое своеобразие предложенной композиции, возникшей на стыке устной (коллективной) и книжно-литературной традиций. Именно культурно-историческая типология «Калевалы» была главной причиной воздержания от индивидуального авторства в современном смысле, оно попросту не приходило Лённроту в голову.
Типологическая специфика учитывается и современной наукой. Обращает на себя внимание, что в отношении национальных эпосов «гомеровского типа», письменно оформленных на основе устной традиции, некоторые западные исследователи употребляют термин «semi-literary epics», т. е. «полулитературные эпосы». Подразумевается переходная форма от устной традиции к книжной, причем о «полулитературе» говорится, конечно же, отнюдь не в оценочно-уничижительном, а именно в историко-типологическом смысле.
Лённрот не прибегал к специальным терминам, но специфика созданного эпического свода осознавалась им.
ФИНСКО-РУССКИЕ ВСТРЕЧИ
Развитию финско-русских культурных связей способствовал отмечавшийся в июле 1840 г. двухсотлетний юбилей университета Финляндии, который был основан в 1640 г. в Турку (так называемая Абоская академия), а в 1827 г. переместился в Хельсинки.
С празднествами было связано организованное Я. К. Гротом совместное издание финских и русских литераторов — «Альманах в память двухсотлетнего юбилея императорского Александровского университета». Альманах вышел в 1842 г. в Хельсинки на двух языках — шведском и русском.
На юбилейные торжества были приглашены почетные гости из Петербургского и Дерптского (Тартуского) университетов, из Российской Академии наук, из университетов Швеции. Вместе с профессорами и академиками приехали студенты. В числе интересующих нас гостей были П. А. Плетнев как ректор Петербургского университета, писатели князь В. Ф. Одоевский и граф В. А. Соллогуб, из Швеции — поэт Ф. М. Франсен, чей творческий путь начался еще в Финляндии. Вместе с Я. К. Гротом они же участвовали в «Альманахе», в котором с финской стороны были представлены статьи КЗ. Л. Рунеберга, М. А. Кастрена, И. Э. Эмана, Э. Лённрота.
«Альманах» открывался обширной статьей Грота об истории финляндского университета, в которой есть любопытные сведения. В статье сообщалось, например, что в университете числилось тогда около 600 студентов, из них присутствовали на занятиях 463 человека (остальные находились во временных академических отпусках). Для единственного тогда университета в стране это может показаться мало, особенно в сравнении с нынешними масштабами университетов. Может возникнуть искушение объяснить это тем, что, мол, страна была маленькая. Но в примечаниях к своей статье Грот напоминал в порядке сопоставления, что в Петербургском университете тогда было 433 студента, в Московском — 932, в Харьковском — 468, Казанском — 237, Дерптском — 530. Выходит, после Московского университета Хельсинкский был тогда вторым по величине университетом в России (и первым по длительности своей истории, если учитывать, что основанный восемью годами раньше Дерптский университет в течение полутора веков, с 1656 по 1802 год, не функционировал).
По описанию Грота, юбилейные торжества в Хельсинки были многолюдными. «Особенно велико было стечение приезжих из всех концов Финляндии, для которой праздник университета как центра ос просвещения был праздником в полном смысле национальных: Никогда еще в мирное время ни один из финляндских городов не представлял такого многолюдства, как Гельсингфорс в июле 1840 года».
В честь юбилея были пушечные салюты. В только что воздвигнутом, но еще не до конца отделанном Николаевском соборе произносились торжественные речи — на латыни, на шведском и на русском языках. Студенты исполняли хоровую музыку, в том числе «Боже царя храни» по-шведски. В течение четырех дней на факультетах университета длились докторские промоции, коснувшиеся и гостей. Степени почетного доктора Хельсинкского университета были удостоены П. А. Плетнев и поэт В. А. Жуковский (отсутствовавший на юбилее). Наконец, были встречи в более узком дружеском кругу, включая встречи литераторов-гуманитариев. Добавим, что в Хельсинки в дни юбилейных торжеств находился также небезызвестный русский писатель Ф. Булгарин, однако в число официальных гостей он не входил, и Грот с Плетневым старались вообще не общаться с ним.
Обобщая свои впечатления, Грот писал: «Чудны были празднества Александровского университета в 1840 году, и на всю жизнь запечатлелись они в памяти всех присутствующих. Никто не мог равнодушно смотреть на эти торжественные обряды, под блеском которых для мыслящего зрителя скрывается столь глубоко поэтическое значение». На празднике науки «всего драгоценнее были искренние чувствования братства и взаимного уважения, которыми она среди описанных торжеств соединяла радушных хозяев и признательных гостей».
Дружескую встречу финских и русских литераторов П. А. Плетнев описал в «Современнике» следующим образом: «Посреди великолепных праздников университета русские литераторы, находившиеся в Гельсингфорсе, почли за долг свой отплатить финляндским литераторам угощением, хотя скромным, но тем не менее радушным и искренним. 7(19) июля, в воскресенье, накануне промоции магистров, они, числом семь человек, пригласили на обед такое же число гостей. Само собою разумеется, что Франсен, Рунеберг и Лённрот должны были своим присутствием украсить это маленькое собрание. Языки латинский, русский, немецкий, шведский, французский и даже финский звучали в небольшом зале».
Обратим внимание на это «даже финский» — весьма характерный исторический штрих: в ту пору и впрямь могло показаться удивительным, что в образованном кругу в финской столице звучал «даже финский» язык. Можно быть уверенным, что по-фински на том обеде говорил (наверное, с улыбкой) именно Лённрот, а с русской стороны, возможно, Грот. Правда, основные занятия Грота финским языком были еще впереди, но ведь он мог уже тогда поупражняться для пробы. В первом же своем письме к Лённроту в Каяни (от 24 октября 1840 г.) Грот заверял его в своих стараниях: «До меня дошел слух, что к Рождеству мы будем иметь удовольствие видеть тебя здесь в Хельсинки, и было бы счастьем не обмануться в наших надеждах. Может статься, я встречу тебя тогда несколькими финскими приветствиями — ведь Кастрен помогает мне изучать финский язык. Тем усердней я буду стараться теперь, будучи удостоенным чести быть членом Общества финской литературы».
Взаимному изучению языков помогали книги и журналы, которые Лённрот и Грот посылали друг другу. В письме от 29 марта 1843 г. Грот поблагодарил Лённрота за целый том финских пословиц, доставленных через Раббе: «Мне очень приятно было получить этот знак твоего воспоминания обо мне. Душевно жалею, что до сих пор не могу еще разбирать хорошенько финской грамоты; однако же надеюсь, что когда-нибудь обстоятельства позволят выучиться понимать все то, что собрано твоими неутомимыми трудами».
В дальнейшем Грот иногда включал в свои письма к Лённроту начальные финские фразы, потом переходил на шведский язык и наконец на русский с шуткой: «Нельзя было обидеть русский язык там, где рядом стоит шведский и финский» (письмо от 1 декабря 1843 г.). А впоследствии, в 1847 г., Грот написал Лённроту письмо по-фински и получил следующий похвальный ответ: «Я не хотел верить своим глазам, когда увидел из твоего письма, насколько хорошо ты выучился финскому языку. Ты пишешь лучше, чем многие из наших здешних, привыкших к финскому языку с детства. В твоем письме ошибок очень мало, и к тому же пустых, их не стоит и считать. Если ты не расстался с намерением провести лето в деревне для практики в разговорном финском языке, то я тебе теперь смогу порекомендовать другое, по-моему, весьма подходящее место — приходское село Лянкемяки<…> Здесь ты прекрасно научился бы говорить по-фински, а заодно смог бы попрактиковаться в разговоре и на других языках».
Приведем еще один любопытный эпизод, характеризующий о ношения Грота с финскими коллегами. В письме к Плетневу от мая 1844 г. Грот рассказывал, что накануне вечером в гостях у не были Кастрен, Лённрот, Готлунд и лектор русского языка Барановский, и добавлял: «Лённрот играл на кантеле и пел малороссийские песни на мелодии финских». Плетнев удивленно спрашивал в ответном письме: «Разве Лённрот уже выучился и по-малороссийски?», на что Грот пояснял: «Лённрот понимает в малороссийских песнях то, что сходно с русским языком».
На упомянутом дружеском обеде Грот прочитал специально сочиненное им к случаю стихотворение, которое начиналось строками:
Сыны племен, когда-то враждовавших,
Мы встретились как старые друзья
На празднествах наук, толпы созвавших
В гостеприимные сии края.
И не давно ль божественные музы
Нас подлинно сроднили меж собой?
Привет же вам! Скрепим святые узы:
Кто чувствами возвышен, тот нам свой.
Здесь, на конце России исполинской.
Мы руку жмем вам ныне от души,
Вам, украшенье старой ветви финской,
Развившей сладкие плоды в тиши.
Меж сих плодов сияет цвет душистый,
То песен дар, излитый в ваш народ,
Чтоб радостней являлся брег скалистый,
И черный бор, и бледный неба свод.
Вслед за статьей Грота в «Альманахе» было напечатано большое стихотворное послание поэта Ф. М. Франсена с той же сквозной мыслью: после долгой шведско-русской исторической вражды должны процветать мир, просвещение, культура. В русском переводе к концу были такие строки:
Ныне росс, эстонец, швед и финн
Звон и чаш, и голосов сливают,
И у всех желание одно —
Дружно жить в свободном царстве мысли.
Тем не менее общение культур было не только их сближением, а и национально-культурным самоутверждением, и здесь возникли свои сложности. «Калевала» была воспринята в Финляндии ленно как мощный стимул национального культурного развития, и соответственно оценивалась роль Лённрота, масштаб его личности.
В этом отношении весьма показательны те обсуждения «Калевалы», которые проводились вскоре после ее появления в студенческих землячествах университета. В 1836 г. такое обсуждение состоялось в Приботнийском землячестве, и докладчиком был предположительно либо М. А. Кастрен, либо Э. А. Ингман. О значении «Калевалы» как фундамента национальной культуры и национального будущего в докладе говорилось: «Какой же более вечной, более прекрасной и достойной основы, чем эта книга, можно пожелать? Что, кроме «Калевалы», может стать источником всего благородного и великого, что сокрыто в прошлом отечества? И если Финляндии действительно суждено такое будущее, когда ее сыны, ведомые подлинной любовью к отечеству, вместо чуждой культуры признают свою собственную, только ту, которая исходит из их самобытного духа, тогда опорой этой мечты станет «Калевала».
В октябре 1841 г. дискуссия по поводу «Калевалы» состоялась в саво-карельском студенческом землячестве. Предварительно были вывешены тезисы, сформулированные для остроты обсуждения как сопоставление двух ключевых фигур — Лённрота и Рунеберга, их значения в национально-культурном развитии. Тезисы гласили:
«1. Значение великих людей должно определяться не личным их величием, а мерой их воздействия на свою эпоху и на будущее.
2. Рунеберг, вне сомнения, духовно более одаренный человек, чем Лённрот, и в настоящее время он не без причины пользуется большей известностью; но через сто лет Лённрот предстанет тем, кто он есть: более великим человеком, чем Рунеберг.
3. Причина тому: Лённрот — всемирно-историческая личность, Рунеберг — только историко-литературная.
4. Иными словами: Рунеберг только поэт и воздействует лишь в сфере своего искусства. Лённрота же следует считать освободителем финского языка и финской нации. Он рассеял те злые чары, которые тяжким бременем давят на весь народ; и однажды он, народ, сможет предстать перед Европой и заявить: мы являемся нацией».
Далее в тезисах утверждалось, что при всем этом Лённрот — «всего лишь переписчик», то есть честно записавший то, о чем пел народ. В этом смысле и «переписчик» может быть «более велик, чем самый великий поэт».
Пафос этих тезисов понятен, юные умы выражали в них свой национально-патриотический энтузиазм, на том этапе столь естественный и необходимый. Между прочим, сопоставление Лённрота и Рунеберга, хотя и не совсем в духе приведенных тезисов, отразилось и в переписке Грота и Плетнева.
Национально-патриотический энтузиазм не обязательно приводил к крайностям, хотя и в крайности тоже впадали, особенно впоследствии, когда у финнов возникнут опасения, не будет ли прежняя шведская культурно-языковая гегемония заменена русской культурно-языковой гегемонией. Этого не мог сбрасывать со счета и Грот уже по своему положению профессора русского языка и словесности в Хельсинки. Лённрот стремился заверить его в нежелательности эксцессов со стороны финнов, и об этом же писал Гроту в мае 1843 г. Кастрен в письме из Ижемской слободы, где он находился во время экспедиционной поездки. На собственном опыте Кастрен убедился, что «достаточное знание русского языка для нас, финнов, было бы весьма полезно. У многих наших соотечественников наблюдается ограниченное понятие: они считают, что русский язык может причинить вред нашей национальности. Но зачем же изгонять все чужое? Соблюдай свое достоинство и уважай его у других — вот первое правило для благородного человека».
Говоря о сложности ситуации, к этому следует добавить, что и сама Россия, ее общество, тогдашняя литературно-культурная атмосфера отнюдь не были однородны. В русской литературе и журналистике были разные направления, представители которых по-разному относились к Финляндии, к ее настоящему и будущему. Финляндией и Скандинавией интересовались не только Грот с Плетневым и прочие авторы упомянутого «Альманаха», но и Ф. Булгарин, с которым не ладил еще Пушкин; существовали «Финский вестник» Ф. К. Дершау, «Московитянин» С. П. Шевырева с его «официальной народностью», «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского, представлявшего так называемое «торговое направление» в русской журналистике, и были «Отечественные записки», в которых печатался В. Г. Белинский, тоже откликавшийся иногда на финляндские (в том числе гротовские) материалы, включая упомянутый финско-русский юбилейный «Альманах».
Во всей этой пестрой картине русской литературно-журнальной жизни, хотя бы в самых общих ее чертах, Грот и Плетнев стремились ориентировать финского читателя, дать представление о том, кто есть кто. Плетнев посылал через Грота экземпляры «Современника» для раздачи финнам, читавшим по-русски, в том числе Лённроту. Грот и сам печатал в финляндских газетах статьи о русской литературе и учил этому своих студентов. В финляндских (шведоязычных) газетах была, в частности, полемика о Ф. Булгарине с целью обнажить поверхностно-занимательный, пошлый и даже рептильный дух его писаний. Ведь Булгарин в России был в свое время чрезвычайно популярен, и Грот опасался, что это же повторится в Финляндии. Грот следующим образом передает наблюдения Кастрена во время его путешествия по Сибири: «Кастрен рассказывал, что везде, где б он ни был, даже у самоедов, в Обдорске и Березове, самый известный писатель — Булгарин. «Северная пчела» всюду. Сочинения его совершенно изодраны от чтения, поля испещрены отметками против мест, которые особенно нравятся, эти места знают наизусть. Наблюдения эти Кастрен сделал особенно над священниками, которые в Булгарине хвалят особливо легкость и то, что он «пишет что ни попало».
Грот, еще больше Плетнев были убеждены в том, что их «Современник» продолжает пушкинскую традицию в русской литературе, которую они сами характеризовали как «несуетную», неторгашескую, нацеленную не на толпу, а на высокую поэзию. И этого же они ожидали от финнов. Обращаясь к Рунебергу, Грот писал в своей застольной стихотворной здравице:
О, Рунеберг, беспечный друг природы!
Тебя нам сладко видеть пред собой:
Ты русских муз прекраснейшие годы
Напоминаешь нам и ликом и душой.
В твоих чертах есть что-то нам родное,
В твоей груди любовь и теплота;
С участьем ты объемлешь все земное,
Но в мысль твою не входит суета.
Статья Плетнева в «Альманахе» была озаглавлена «Финляндия в русской поэзии», в ней говорилось именно о поэтах пушкинской поры — о Е. А. Баратынском (служившем несколько лет в Финляндии), Д. В. Давыдове (участвовавшем в русско-шведской войне 1808— 1809 гг.), немного о скандинавско-прибалтийской тематике в творчестве В. А. Жуковского и H. М. Языкова, и, разумеется, о самом Пушкине, особенно о поэме «Руслан и Людмила» с ее романтическим «финским сюжетом». В статье обильно цитировались стихи названных поэтов, в конце автор считал себя попросту «переписчиком» (вспомним студенческую характеристику Лённрота!) и выражал надежду, что русская поэзия и ее «финская тема» скоро будут доступны и в Финляндии «суду всего образованного класса читателей». А в зачине статьи (она была написана в форме дружеского послания поэту Ф. Сигнеусу) Плетнев, отдавая должное идее взаимности, подчеркивал: «Мы с своей стороны внимательно следуем за вашим Лённротом, который воскрешает поэмы и песни финского народа. Мы знакомы уже и с вашею «Калевалой», и с «Кантелетаром» вашим». Без народных корней поэзия, по словам Плетнева, «бледна и ошибочна».
Однако народность, особенно в ее патриархальном виде, тоже можно было идеализировать. И воспеваемая Рунебергом «гордая бедность» финнов могла порой восприниматься очень уж благостно, вне конкретных социальных координат, без учета реального положения народа.
В «Альманахе» была напечатана также статья В. А. Соллогуба «О литературной совестливости» (в форме дружеского обращения к Рунебергу). В статье достаточно резко противопоставлены идеализированная финская патриархальность и европейская «испорченность». Автор писал о своем восприятии финской жизни: «Вообще все впечатления, оставленные во мне собственно Финляндиею и ее жителями, всегда будут для меня незабвенно приятными, и, сказать ли вам, я расстался с вами, с товарищами вашими и всем вашим краем с чувством истинного уважения и преданности. Во-первых, поразила меня откровенность и немного суровое прямодушие ваших единоземцев <…> Еще меня поразила ваша гордая бедность, ваше презрение к утонченностям нашей столичной роскоши. Вы малым довольны, потому что вы не испорчены жизнью. У вас роскошь душевная. Две, три комнаты составляют ваши палаты. В чистенькой передней не сидят балованные лакеи и вы сами отпираете дверь, когда добрый приятель приходит разделить вашу мирную беседу. Не зная светской порчи, не знаете и письменной испорченности, — этой язвы, которая задушает зерно прекрасного еще прежде его развития. Не по расчету вы пишете, а по внутреннему влечению, и чувствуете глубоко и мыслите светло. Многие из ваших поэтов принадлежат к духовному званию. Одно это свидетельствует, что поэзия у вас чистое, безмятежное отдохновение, святыня, которая свыше нисходит к вам после благочестивых трудов ваших и озаряет путь вашей жизни не земным светильником, а божественным лучом».
Не правда ли, на фоне трагического письма Ю. В. Снельмана из шведской эмиграции по поводу юбилейных торжеств в Хельсинки и после всего увиденного и пережитого Лённротом во время повальных эпидемий и голода с тысячами смертей финские впечатления Соллогуба кажутся слишком уж благостными.
В России статью Соллогуба в «Альманахе» заметил Белинский и посчитал неправомерным противопоставление Финляндии крупным западным странам — и ритм жизни, и масштабы событий были разными.
Установка на безмятежное и отстраненное от земных забот вдохновение в литературе и журналистике не стало удовлетворять со временем и Грота. В переписке с Плетневым он готов был спорить с ним и доказывал, что общественные потрясения 1848 г. в Европе невозможно было объяснить только упадком авторитета религии и «порчей нравов», а следовало смотреть глубже в социальную действительность. Упадок авторитетов, писал Грот Плетневу в письме от 28 марта 1848 г., это «только признак внутреннего расстройства. Оно же, по моему мнению, произошло от неестественности, диспропорции между классами общества; тогда как одни пользуются всеми благами жизни, другие получают в удел только зло всякого рода: труд, бедность, невежество, разврат и часто угнетения. Социалисты, стараясь воскресить или пересоздать общество на новых началах, внушали низшим классам (посредством свободы книгопечатания), что они имеют право на улучшение своей судьбы. Вместе с тем легко было внушить презрение к авторитетам, когда люди, пользующиеся ими, часто показывали себя совершенно недостойными никакого уважения».
Но Плетнева это не убеждало, чувство душевной усталости отвращало его от политических страстей, и успокоения он искал в гротовских же путевых очерках и письмах о Финляндии, в описаниях ее безмятежной природы. «Летом ты проводишь счастливую жизнь, — писал Плетнев своему другу. — Что может быть приятнее и полезнее переездов по стране, в которой красота природы в гармонии с чистотою нравов жителей и их образованностью? В прежнее время Швейцария представляла что-то подобное. Теперь и там ужасы революции затмили прелести картин природы. Да, я готов думать, что для моей или твоей души только и осталась в Старом свете одна страна, где мы найдем счастье по нашему понятию — это Финляндия. Если бы я мог владеть двумя господствующими в ней языками, я не усомнился бы усвоить ее себе как отечество. Посреди гибельных раздоров и шаткости всех общественных идей я нашел бы в ней уголок, куда доверчиво укрыл бы себя на многие, вероятно, годы, предоставленные мне судьбою провести на земле». Плетнев даже советовал Гроту присмотреть в Финляндии землю и имение, чтобы в случае необходимости можно было там поселиться вместе с семейством.
Грот, однако, смотрел и на финские, и на европейские, и на российские дела более реалистично. Это касалось также литературы и журналистики. Когда «Современник» (начиная с 1847 г.) стал издаваться уже на другой основе Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым, Грот отнесся к этому положительно. Он писал Плетневу, что журнал теперь обладает достоинством и стал таким же «львом» в русской журналистике, как и «Отечественные записки». Хотя оба эти журнала, добавлял Грот, «на меня самого нападают, однако ж я в их критике часто нахожу справедливость и ум, и вообще многое читаю в них с удовольствием. Такой успех, каким он пользуется, не дается совершенно даром».
Каким же было отношение Лённрота ко всему этому — к статьям «Альманаха», к спорам и разнообразию мнений в Финляндии, к отголоскам русской литературной жизни?
О многом мы не знаем, Лённрот не особенно распространялся на подобные темы, у него была своя фольклорная нива, на которой он трудился сосредоточенно и не отвлекаясь. Между прочим, эта черта в Лённроте тоже нравилась Гроту — трудолюбие и сосредоточенное успокоение. «Тут я понимаю, — писал он Плетневу 28 июля 1848 г., — как Лённрот может годы проводить над лексиконом и как вообще филологи находят полное удовлетворение в своей деятельности: они по большей части всегда люди спокойные, счастливые светлым расположением духа, общительные и добрые».
Тем не менее на народную жизнь в ее непосредственных проявлениях Лённрот смотрел, как мы уже убедились, гораздо более трезвыми глазами, чем иные его современники. Правда, одна из древнейших иллюзий человечества, будто прошлое всегда было чем-то лучше настоящего, сказывалась иногда и в рассуждениях Лённрота. Например, в предисловии к антологии народной лирики он с тоской говорил о том, что «былая простота нравов и быта разрушается год от года, уступая место внешней мишуре», и что старомодные, но «добротные суконные кафтаны» все чаще сменялись «дрянными сюртуками». Но вместе с тем Лённрот — в отличие от безоговорочных сторонников патриархальной старины — отдавал себе отчет в том, что отрицать историческое развитие бессмысленно, нужно только, чтобы оно было действительно разумным движением вперед. Он не хотел оказаться в числе тех, «кто, не постигнув своей эпохи, косо поглядывает на все, что не напоминает ему о былых временах». У каждой эпохи, писал Лённрот в том же предисловии к «Кантелетар», есть «свой характер, своя жизнь, своя сущность, и былое нельзя вернуть назад, на какой бы веревке его ни тянули. И мы говорим это не для того, чтобы восхвалять настоящее перед прошлым, а лишь в назидание тем, кто вечно печалится, глядя, как валится наземь старая ель, и не понимает того, что из молодого побега, если не затоптать его, может вырасти новое дерево».
Только с ретроспективным и идеализированным взглядом на прошлое нельзя было создавать новую культуру — она должна вырастать из ценностей прошлого, подобно новому дереву.
В юбилейном «Альманахе» Лённрот опубликовал статью «Крестьянские поэты в Финляндии». В ней речь шла о сатирических песнях, сочиняемых в народе на местную «злобу дня». Само обращение Лённрота к сатирическим песням было примечательным, учитывая, что в финской критике тогда вообще не говорилось о сатире применительно к народной поэзии, она считалась чуть ли не идиллической, в некотором смысле даже «досоциальной» из-за своей архаичности. Лённрот же в статье исходил из того, что крестьянская сатирическая поэзия — это явление сословного общества, для ее понимания требуется прежде всего знание условий народной жизни. «Для большей части читателей, — писал Лённрот, — руны эти должны много терять не только оттого, что при переводе пропадает в значительной степени острота и колкость их, но и оттого, что в самой Финляндии высшие сословия слишком мало знакомы с бытом, нравами и понятиями наших поселян». В качестве примера Лённрот указывал, что выражение «удить рыбу» в песнях содержит в себе ироническую насмешку, потому что в глазах крестьянина сидеть с удочкой в руках — господское занятие, сами крестьяне ловят рыбу иначе и не забавы ради.
Остановимся еще на одном моменте, связанном с восприятием «Калевалы» самими финнами, современниками Лённрота. В условиях, когда в Финляндии спорили о том, есть ли у финнов своя национальная история, и когда собственная историографическая наука едва только зарождалась, «Калевала» в качестве поэтической летописи воспринималась как некая замена летописи исторической. «Калевала» была свидетельством того, что у финнов тоже была своя самобытная история, что их исторические корни уходят в глубокую древность. В сущности, так понимал это и Лённрот. Такая мысль проходила уже в предисловии к «Калевале» 1835 г., а в предисловии ко второму изданию он выразил это еще отчетливее: «Твердо памятуя о том, что для финского народа и его языка, пока они будут существовать на свете, эти руны навсегда останутся древнейшим и своеобразнейшим их свидетельством, составитель книги попытался тщательно и бережно, в меру своего умения, связать руны общей последовательностью, собрать в единое целое все, что в них повествуется об обычаях и событиях минувшего времени».
На годичном собрании Общества финской литературы 16 марта 1836 г. его председатель Ю. Г. Линеен в своей речи выразил некий общий взгляд на историческое значение «Калевалы». Подчеркнув, что она впервые придала финской словесности «почти европейскую известность», он продолжал: «Можно без преувеличения сказать, что только теперь наша литература выходит из своей колыбели. Обладая этими эпическими рунами, Финляндия с возмужавшим самосознанием научится понимать и свое прошлое, и свое будущее духовное развитие. Она вправе сказать себе: «У меня тоже есть история!» Линеен был уверен, что в истории финской литературы «Калевала» займет основополагающее место и что ее будут читать в финских школах, когда они возникнут. «Народная поэзия должна стать средством образования народа», — утверждал Линеен.
Конечно, историзм «Калевалы» в качестве исторической летописи понимался уже тогда весьма по-разному. Наиболее глубокое истолкование ее исторического содержания, наряду с М. А. Кастреном, дал в своих статьях середины 1840-х гг. Роберт Тенгстрём, молодой философ младо гегельянского направления. Но к нему мы обратимся чуть позже в связи с расширенной редакцией «Калевалы» 1849 г.
ЛИРИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ «КАНТЕЛЕТАР»
Слово «Кантелетар» является производным от «кантеле» — подразумевается Дочь кантеле, муза-покровительница песен и игры на этом старинном народном музыкальном инструменте.
Относительно того, является ли слово «Кантелетар» по своему происхождению народным или же это новообразование Лённрота, исследователи не выражают определенной точки зрения. Не исключено, что Лённрот услышал его от рунопевцев. Аналогичные по своей структуре слова были зафиксированы собирателями рун, например: Куутар (Дочь луны), Пяйвитар (Дочь солнца), Луоннотар (Дочь природы), Туонетар (Дочь Туонелы, царства мертвых) и т. д. Суффикс «тар» означает женский род и в фольклоре придает слову магический оттенок, отчасти оно становится именем собственным — волшебная покровительница и помощница чего-то и кого-то.
Сборник «Кантелетар» вышел в 1840—1841 гг. тремя выпусками-книгами. Первые две книги включали лирические песни, третья — народные баллады, причисляемые обычно к лироэпическому жанру. От архаической (языческой) эпики они отличаются тем, что баллады — это уже фольклор Средневековья, хотя некоторые сюжеты в третьей книге «Кантелетар» и являются более древними. Всего в сборнике, в основном его тексте, 652 песни (22 201 стих) и вдобавок некоторые песни приводятся в предисловии. Ко всем трем выпускам-книгам было общее приложение, включавшее около 4300 стихов из разных вариантов.
В предисловии Лённрот сообщал, что материалы к сборнику он накапливал свыше десяти лет, то есть в результате всех его фольклорных экспедиций, начиная с 1828 г. В сборнике были в какой-то мере представлены все обследованные регионы, но основным источником лирических песен была Приладожская Карелия.
Процесс подготовки рукописи был трудоемким и занял несколько лет. Лённрот четырежды переписывал рукопись набело, каждый раз что-то изменяя и дополняя. Подобно «Пра-Калевале», известен также ранний вариант лирического сборника, получившего название «Пра-Кантелетар». По объему этот ранний вариант, относящийся к 1838 г., примерно наполовину меньше окончательной редакции, хотя по количеству песен разница не столь большая (517 против 652). В «Пра-Кантелетар» отдельные песни меньше по объему, они ближе к более лаконичным фольклорным вариантам. В окончательной редакции Лённрот свободнее и щедрее компоновал тексты не только из разных вариантов одной и той же песни, но и из разных песен, считая, что их разделение было не вполне оправданно допущено самими исполнителями. В иных случаях Лённрот, напротив, дробил исполнительский вариант и использовал части в двух-трех песнях.
Не следует, конечно, думать, что Лённрот делал это чисто механически или из каких-то тщеславных стремлений казаться оригинальным. При составлении антологии народной лирики, которая должна была быть максимально представительной и многообразной, он сталкивался со множеством проблем, которые нужно было как-то решать. В предисловии к «Кантелетар» Лённрот указывал, например, на следующую особенность собственно фольклорных вариантов песен: в разных песнях очень часто повторялись одни и те же стихи, одни и те же образы (так называемые формулы-стереотипы, закрепленные фольклорной традицией и используемые певцами по мере надобности в разных песнях и сюжетах). Но в антологии, включающей сотни песен, нельзя было допустить слишком частой повторяемости одних и тех же стихов и образов-элементов. Книжная форма антологии требовала соответствующего литературного оформления с учетом целостного читательского восприятия.
Заметим, что полевые фольклорные варианты эпических рун и лирических песен переоформлял не один Лённрот, но и некоторые последующие финские фольклористы после него. К крупнейшим из них относятся Каарле Крон, основатель «финской школы» в фольклористике, академики Мартти Хаавио и Матти Кууси. В свое время Крон предложил свою редакцию лирических песен (1920) и эпических рун (1930). В 1952 г. две антологии — эпики и лирики — в собственной редакции текстов опубликовал Хаавио, который был не только ученым, но и талантливым поэтом. По словам Хаавио, он уже не стремился, в отличие от Крона, к реконструкции изначальной «праформы» древних рун — целью его было придание им такого вида, который они, по его словам, могли иметь в момент наивысшего расцвета фольклорной традиции, после чего началась уже ее эволюция по нисходящей. Но в принципе тут не было существенного различия между Кроном и Хаавио (а вспоследствии также Кууси) — все они руководствовались своими собственными представлениями, в том числе эстетическими, о древней поэзии.
Это же можно сказать о Лённроте, причем в культурно-историческом смысле его задача была даже более принципиальной, можно сказать, эпохальной: в его классических книгах фольклорная традиция впервые по-настоящему смыкалась с литературой, становилась основой ее дальнейшего развития.
В творческой биографии Лённрота «Кантелетар» имеет вполне самостоятельное значение. А вместе с тем систематизированный материал этой лирической антологии был использован Лённротом при дальнейшей работе над расширенной редакцией «Калевалы».
Как уже говорилось, Лённрот не считал «Калевалу» 1835 г. чем-то окончательным ни в смысле полноты материала, ни по безупречности композиции. Почти сразу же после выхода первого издания он принялся накапливать дополнительный материал и думать над тем, как распределить его композиционно. Сохранился рабочий экземпляр первого издания «Калевалы» со специально вклеенными чистыми страницами, куда Лённрот систематически вписывал вставки и вносил изменения. Следует учесть и то, что в процессе работы над расширенной редакцией «Калевалы» у Лённрота усиливалось стремление к синтезу жанров в единой композиции, для чего систематизированные материалы «Кантелетар» были под рукой.
К народной лирике Лённрот питал особую любовь, что проявилось в предисловии к «Кантелетар», равно как и в его письмах. Если издание эпики в целях национального возрождения было для Лённрота гражданским долгом и велением совести, то к лирике лежала его душа, к ней он тяготел сердцем. В лирике было много народной печали, и Лённрот глубоко ей сочувствовал. По сравнению с эпикой лирика открывала иную область народного сознания, мир чувств и переживаний. Эпика в ее архаических формах была в основном поэзией мужчин, тогда как лирические песни входили по преимуществу в женский репертуар, хотя были, разумеется, и взаимопроникновения.
Об особом пристрастии Лённрота к народной лирике свидетельствует, например, его письмо от 26 сентября 1845 г. к немецкому филологу и профессору Г. Брокгаузу, намеревавшемуся переводить «Калевалу» на немецкий язык. Сама идея перевода эпоса зародилась, видимо, не без влияния доклада Гримма о «Калевале». С помощью финского магистра А. Г. А. Челгрена профессор Г. Брокгауз в Лейпциге занялся изучением финского языка и пытался войти в текст «Калевалы», сталкиваясь, однако, с немалыми трудностями. Лённрот в обширном письме (которое было ответом на письмо корреспондента) стремился в чем-то ориентировать Брокгауза, сообщал о своей словарной работе, выражал даже готовность приехать в Лейпциг для личной встречи. Перевод Брокгауза в конечном итоге, к сожалению, не состоялся, но из письма Лённрота можно понять, что немецкий профессор и потенциальный переводчик интересовался также другими жанрами, не только эпосом. В связи с этим Лённрот писал: «Возвращаясь к собственно народной поэзии, должен сказать, что всего восхитительней она являет себя в лирике, то есть в жанре, представленном в «Кантелетар».
В том же письме Лённрот обращал особое внимание на образный язык лирических песен, на их напевность и звуковое оформление, на обилие в них ономатопоэтических (звукоподражательных) слов и образов. Своему немецкому корреспонденту Лённрот писал, что в финской народной лирике, ввиду специфики языка и поэтики, звукооформление играло, пожалуй, еще более важную роль, чем в немецкой лирике. Отсюда возникали трудности перевода. Без фонологической напевности, без соответствующей образности и звучания от содержания лирических песен могло мало что остаться. И тем не менее Лённрот был готов выслать Брокгаузу при необходимости свои шведские переводы некоторых песен, чтобы помочь делу с немецкими переводами.
В предисловии к «Кантелетар» Лённрот писал, что его могли упрекнуть даже в «чрезмерной любви» к финской лирической песне, но он считал это заслуженной любовью и приводил в подтверждение столь же восторженные мнения других лиц.
Финская лирическая песня представлялась Лённроту очень самобытной в ее подлинной народности. Он сравнивал ее со шведской песней, в том числе балладного типа, считая, однако, что баллады изначально зародились в верхних сословиях и только потом опустились в народную среду. Несколько ближе финская песня, по Лённроту, была к русской народной песне, но и в этом случае она оставалась предельно своеобразной, так что ее можно было сравнивать «разве что с нею самой».
У финской лирической песни было больше общего с эстонской песней, причем здесь была уже генетическая общность в силу этнического родства двух народов. Финская и эстонская песни возникли из одной и той же древней основы в эпоху прибалтийско-финской языковой общности. Из этого Лённрот делал вывод, что народная лирика была очень древнего происхождения. Вслед за X. Г. Портаном он считал лирику самым древним фольклорным жанром. По словам Лённрота, у всех народов — от древних греков до современных европейцев — была своя лирическая поэзия. Финны не были каким-то уникальным исключением, и не они первыми начали собирать свои песни, — напротив, к спасению своего наследия они приступили слишком поздно, когда значительная его часть была уже утрачена.
Как пример многонациональности мировой лирики Лённрот привел в предисловии в своем переводе с немецкого несколько песен из сборника Гердера «Голоса народов в их песнях». В числе переводов были саамская, гренландско-эскимосская, литовская, сицилианская, древнегреческие песни (отрывки из Сафо).
В отношении карело-финских лирических песен Лённрот понимал, конечно, что по времени происхождения они были разными. В качестве примера он ссылался на шуточную застольную песню, в которой упоминалось о королевском запрете тайного винокурения и которая не могла быть старше второй половины XVIII в.
Более всего Лённрот ценил старинную лирику с Калевальской метрикой. Ее он отличал, с одной стороны, от литературной поэзии, которую называл «ученой», а с другой — от так называемых «новых песен» с иной ритмикой и мелодикой, которые сочинялись и распространялись в народе, по словам Лённрота, преимущественно сельскими ремесленниками и мастеровыми людьми — сапожниками, портными, кузнецами, плотниками, столярами. Здесь у Лённрота в памяти был живой пример и опыт его отца, сочинителя и исполнителя песен. Но если старинные песни отличались устойчивостью и традиционностью, то «новые песни» исполнялись в народе лишь в течение нескольких лет, потом забывались и сменялись другими на новую «злобу дня».
Традиционная и более устойчивая «Калевальская» лирика была во многом связана с ритуалами: свадебные песни — со свадебным ритуалом, охотничьи песни — с магическими охотничьими заклинаниями, пастушьи песни — с заговорами-оберегами скота на летних пастбищах. Это была древняя генетическая связь, хотя в современном исполнении песни могли ее в какой-то мере уже утрачивать. Ритуально-магическая функция закл и нательной поэзии ослабевала, она становилась просто поэзией.
Лённрот подчеркивал тесную связь поэтического мира лирических песен с миром природы и с самым обыденным народным бытом. Народная лирика не устремлялась в заоблачные высоты, чуждалась отвлеченности. И природа была в лирике не объектом стороннего эстетического созерцания и праздных восторгов, а непосредственной средой обитания людей, физически осязаемой составной частью ежедневного быта. Из природы и быта черпался образный язык лирики — максимально конкретный и материально-предметный. Такие душевные состояния, как горе, печаль или радость, тоже находили предметное выражение, они были как бы физическими существами, проникшими вовнутрь человека, в его сердце, либо материальным воплощением магических духов. В качестве материального существа доля-счастье одного конкретного человека могло почему-то уснуть, залениться и затеряться, тогда как у другого человека доля-счастье было расторопным, деятельным и преуспевающим. И в песне «Спящая доля» оплакивалось такое горькое невезение.
В подобных песнях магические представления людей о счастье-несчастье превращаются уже в развернутые метафоры, являются как бы отправной точкой поэтической фантазии, очень предметно выраженной. Постоянное обращение народной песни к природе не производит впечатления нарочитости, искусственной заданности, как это бывает нередко в заурядной беллетристике, где разнообразия ради действие преднамеренно чередуется с картинами природы. В старинной народной песне природа — именно естественная, а для жителя глухой лесной деревни единственная среда, в которой он обитал весь свой век от колыбели до гроба. И если на сердце у него была печаль, выразить ее он мог столь же естественными словами:
Снег сойдет и обнажатся почернелые пожоги,
вересковый лес оттает и прогреются болота;
но с души заледенелой не сойдут снега печали,
крепкий лед лежит на сердце, давит медною горою.
(Перевод Ю. Кузнецова)
В финско-карельской лирике, особенно в девичьих и женских песнях, часто встречаются метафоры с образами птиц. Особенно часты обращения к кукушке. Лённрот считал, что кукушка — главный символ лирической песни. С образом кукушки ассоциируется пробуждение природы, начало лета; кукушка — предсказательница судьбы, кукованием принято измерять человеческий век. Поэтическая семантика образа кукушки в финско-карельских песнях, пожалуй, несколько отличается от его бытовой семантики в русском языке (кукушка как беззаботная и коварная мать). Кукование кукушки в финских песнях — это радость и ожидание.
Только песни петь я стану,
руны складывать начну я, —
под окном рябина встанет,
дуб широкий на подворье,
крона с гладкими ветвями
и по яблоку на ветке,
а на яблоке — злат-обруч,
а на обруче — кукушка.
Только петь начнет кукушка,
в горле золото заблещет,
медь по клюву заструится
в золотую нашу чашку,
в наше медное лукошко…
Как видим, кукушка — это как бы метафорический источник песен для самой исполнительницы-певуньи. Есть и другие метафорические источники. Поскольку песни большей частью женские, они нередко ассоциируются с прядением, веретеном, клубком шерстяной нити — певунья воображает, что когда она только училась петь в юные годы от других певуний, клубок песен в ее памяти наматывался, а теперь разматывается для новых слушателей.
Подобная метафора песенного клубка, как заметил М. Хаавио, характерна именно для женских песен, тогда как в мужских рунах чаще встречается метафорическая дорога, лыжня, движение. Ведь и в эпилоге «Калевалы» певец завершает пение словами о том, что он проложил лыжню для последующих певцов.
Хотя пение — внутренняя потребность и дает утешение и радость, тем не менее поется в песнях «Кантелетар» чаще всего о горе и печали, о покинутости и одиночестве. В предисловии Лённрот считал это лейтмотивом лирических песен. Радость обычно осталась в прошлом, она воспоминание детства, юности, девичества, былых счастливых и беззаботных дней в родительском доме, тогда как нынешняя, сиюминутная жизнь горестна и печальна, полна забот и страданий. В песнях «Кантелетар» часты такие вариации: «Печаль рождает песню», «Как птица создана для полета, так в горестях возникает песня». В женской песне поется: «Моя сорочка соткана из ненастных дней, платок — из забот». Лённрот добавлял, что из горя и душевных невзгод соткана образная ткань большинства лирических песен. Беды жизни меняют певческий голос: «Раньше мой голос устремлялся как лыжи по насту, как челн по речному течению, как парус по заливу, — а теперь мой охрипший голос скрипуч и шершав, как деревянная борона на пожоге, как поваленная сосна, которую волокут в сугробах, как езда на санях по обнаженной песчаной дороге». Словом, лирика чаще всего элегична по интонациям, по душевному настроению.
Чувство одиночества в песнях имело свои социально-бытовые причины: сиротство, тяжелая вдовья доля, притесненность замужней женщины в доме свекра и свекрови, безответная любовь девушки, зависимое положение работницы-служанки на чужом подворье, неприкаянность бедняка-горемыки и бродяги. Чувство одиночества в песнях Лённрот объяснял еще и тем, что северные люди (особенно при финской хуторной системе) жили на больших расстояниях друг от друга, редко общались. В прологе «Калевалы» один певец говорит другому:
Редко мы бываем вместе,
редко ходим мы друг к другу
на пространстве этом бедном,
в крае севера убогом.
(Перевод Л. П. Бельского)
В лирических песнях, по мнению Лённрота, чувство одиночества порождало у человека тем большее желание общаться с природой, соизмерять с нею свои душевные состояния, мысленно разговаривать со всеми ее обитателями. Отсюда в народной песне, по словам Лённрота, «так часты обращения к птицам, рыбам, к прочим живым существам, к деревьям, цветам, озерам, лесным ламбинам* и т. д. [* русское название малых пресноводных, как правило, бессточных лесных озёр на территории Карелии и Финляндии] От тоски по человеческому общению всюду отыскивались друзья». По Лённроту, это свидетельствовало о коллективизме народной психологии. Песня дорожила особенно тем, что было знакомо певцу с детства и навсегда запечатлелось в памяти. По законам контрастной поэтики фольклора самым дорогим тогда оказывалось самое, казалось бы, неприметное и несущественное, но для душевного состояния одинокого человека самое близкое и сокровенное. Поскольку люди могут оговорить и ославить, одинокий несчастливец готов поведать свое горе осинам и плакучим ивам, а убогий сиротка поет:
Все ругают, только двое
обо мне хранят молчанье,
я их сам приладил в детстве:
в дальней изгороди снизу
лозниковая завязка
да на поле кол — у этих
нету рта, чтобы судачить,
языка, чтоб похваляться.
По убеждению Лённрота, народная лирика, черпая образы из «низкой действительности», из обыденного быта и природного окружения, тем не менее была способна выразить богатство человеческой души, породить «тысячи мыслей» о сущности нашего бытия.
Лённрот высоко оценивал народную (традиционно-калевальскую) лирику и в эстетическом отношении. Ее превосходство над «новыми песнями» он видел, в частности, в том, что в старинной лирической песне слово и мелодия были в слитном единстве, не расщеплялись и не вытесняли друг друга. Разрыв слова и напева произошел в новое время, в «новых песнях» (как и в книжной поэзии). Следует подчеркнуть, что под органическим единством слова и мелодии Лённрот подразумевал не ту элементарно-нормативную их взаимозависимость и соответствие, которые желательны вообще во всякой хорошей песне, в том числе современной, а тот древний синкретизм, когда фольклорная песня еще не имела отдельного словесного «текста» как такового, поскольку еще не состоялось расщепление песни на текст и мелодию, на поэзию и музыку. Этот исторический взгляд в рассуждениях Лённрота обычно не учитывался исследователями, между тем его мысль наполняется через это глубоким историческим содержанием. Рассуждая именно в историческом плане, Лённрот писал в предисловии к «Кантелетар», что древняя слитность слова и напева распалась в новое время таким образом, что слово стало единовластным «самодержцем» в литературной поэзии (которая превратилась просто в «текст»), а мелодика односторонне господствует в «новых песнях» (с их обедненным, по мнению Лённрота, словесно-поэтическим содержанием). В связи с этим Лённрот образно писал: «Слово и напев, изначально родные сестры, теперь тоскуют друг подругу и часто плачут от одиночества». И далее он приводил лирическую песню о двух сестрах, которые «вместе росли у родимой матери, вместе крутили ручной жернов, вместе трудились в овине; но одна сестрица ушла, а другая печалится и плачет весь свой век».
Старинную песню Лённрот ценил за подлинность выраженных в ней чувств, за простоту и естественность. Сопоставляя ее с «ученой» (книжной) поэзией, он сетовал на рассудочность последней, на то, что она лишилась прежней безыскусственности. Если безымянная древняя песня как бы «самозарождалась» в народе, то книжное стихотворение преднамеренно «делается» автором.
В своих сопоставлениях устной и литературной поэзии Лённрот шел во многом за европейской традицией. Еще Гердер считал, что по мере развития науки, философии и рационалистического мышления язык утрачивает свои поэтические качества, сама поэзия лишается естественности. Процесс этот связывали с отстраненностью человека от матери-природы, нашего абстрагированного сознания — от материального мира, разума — от чувства. Углублявшийся разлад объясняли в конечном итоге прогрессирующим разделением труда в обществе и дроблением личности. В свое время Шиллер писал: «Вечно прикованный к отдельному малому обрывку целого, человек сам становится обрывком». Сопоставляя древнюю «наивную» и современную «сентиментальную» поэзию, Шиллер подчеркивал, что само ностальгическое тяготение современных людей к природе есть признак того, что связь с нею уже навсегда утрачена нами. Утрата эта относилась не только к внешней природе, но и к «внутреннему естеству» и цельности человека. «Поэтому чувство, привязывающее нас к природе, так родственно чувству, с которым мы оплакиваем исчезнувшую пору детства и детской наивности. Наше детство есть единственный остаток неизуродованной природы, встречаемый нами в цивилизованном человечестве, и потому не удивительно, что каждый след природы вне нас ведет нас обратно к нашему детству».
И, наконец, Гегель своей эстетикой, оказавшей огромное влияние на европейскую культуру, в том числе на ряд финских деятелей (прежде всего на Ю. В. Снельмана), во многом способствовал историческому пониманию искусства. Однако эволюционировало искусство, в представлении Гегеля, все же по нисходящей линии, к распаду его классических форм. Дух в процессе его саморазвития и самопознания, по Гегелю, все более абстрагируется от объективного внешнего мира, от чувственной реальности, погружаясь в чистую субъективность. Гегель считал, что этот поворот начался уже одновременно с христианством. «Так как христианская религия представляет себе Бога как дух, и не как индивидуальный особенный дух, а как абсолютный дух<…>, то она возвращается от чувственного представления к внутренней духовной жизни и делает ее, а не телесную форму материалом и наличным бытием своего содержания». Чувственное созерцание мира становится для искусства все более труднодоступным, поскольку нарушена свойственная классическому (античному) искусству гармония идеи и образа, идеи и реальности. В классическом искусстве индивид еще не отделял себя от нравственного целого, сознавая себя лишь в единстве с целым. «Мы же, согласно нашему современному представлению, отделяем себя в качестве лиц с нашими личными целями и отношениями от цели такого целого. Индивид делает то, что он делает, исходя из своей личности и для себя как лица; поэтому он и отвечает лишь за собственные действия, а не за действия того субстанционального целого, которому принадлежит». Личность обособляется, становится всего лишь частной правовой единицей.
Здесь не место вдаваться в анализ и оценку всего этого — для нас важно лишь указать на европейскую традицию, в русле которой оформлялись и взгляды Лённрота на фольклор и его отношение к литературе. Подобно тому как для Гегеля классическая античность была идеалом искусства, так же Лённрот находил в народных песнях некую высшую гармонию — не социальную, разумеется, а художественную, единство слова и мелодии, поэтического образа и окружающего мира, хотя этим миром и была «низкая действительность» народной жизни.
Даже при некоторой идеализации прошлых эпох и прошлого искусства, в подобном направлении мысли было немало верного, исторически проницательного и плодотворного. К тому же момент идеализации содержался и в самом фольклорном материале, в народном сознании. Уже то, что в народных песнях зачастую поэтизировалось детство как самая счастливая пора человеческой жизни, легко ассоциировалось с гармоническим «детством человечества», с «золотым веком» мифов, в том числе с библейским мифом об утраченном земном рае.
Не случайно принятая в ту пору культурно-историческая терминология так прочно укоренилась в науке; к ней сейчас могут относиться отчасти скептически, ставить иные термины в кавычки, но все-таки пользуются этими терминами за неимением лучших. На некоторых языках этнографы до сих пор называют первобытные народы «естественными народами» в отличие от «цивилизованных народов» (нем. Naturvölker — Kulturvölker, фин. luonnonkansat — sivistyskansat). Укоренившиеся в эпоху Лённрота представления отразились в этимологиях ряда современных терминов, которых в финском языке до Лённрота еще не было. В предисловии к «Кантелетар» Лённрот рассуждал следующим образом: если фольклор (как «естественная» поэзия) самозарождался непреднамеренно и коллективноанонимно, то «ученая» книжная поэзия преднамеренно (и в этом смысле «искусственно») «делается» определенным лицом-автором. Уже после предисловия Лённрота в финском языке появилось слово tekijä (автор, «делатель»), а литературная поэзия стала называться taiderunous (букв, «искусственная поэзия» — ср. нем. Naturpoesie — Kunstpoesie, Kunst — kiinstlich, русск. искусство — искусственный).
Эта присутствующая в рассуждениях Лённрота (как и Гердера) оппозиция-противопоставление «естественный — неестественный» еще не показатель порочной односторонности и прямолинейности их взглядов. Хотя мысль о прогрессирующей депоэтизации человеческого сознания и звучала у Гердера (и в особенности у Гегеля) как некая роковая предопределенность, однако ведь главной целью и Гердера, и Лённрота было именно возрождение национальной литературы на основе фольклора.
Впрочем, предисловие Лённрота к «Кантелетар» вызвало некоторые критические замечания со стороны Ю. В. Снельмана. Оба они делали по существу одно дело, но акценты расставляли по-разному, поскольку сферы деятельности и подходы были разные. Снельман-публицист стремился привить литературе новейшие европейские идеи, преодолеть национальное самолюбование и патриархальную отсталость. Критический пафос был необходим. В первом же номере своей газеты «Сайма» Снельман выдвинул полемический тезис: «У нас нет национальной литературы», чем вызвал недоуменные вопросы: а Рунеберг, а «Калевала»? Снельман высоко ценил «Калевалу» как художественный памятник и национальное достояние. Ему принадлежат слова: «Если финский народ завтра исчезнет, от всего финского останется одна «Калевала». Но «Калевала», с точки зрения Снельмана, выражала дух древних поколений, а не ныне живущего народа. Современникам нужна была современная литература. При всем значении «Калевалы» для литературного развития ее не следовало рассматривать как некий универсальный свод готовых ответов на все вопросы времени. Это было возражение не столько Лённроту, сколько тем, кто в пылу восторгов утрачивал чувство меры. Но в принципе противопоставление устной поэзии современной литературе Снельман не мог оставить без внимания.
Упреки Лённрота «ученой» поэзии отчасти были вызваны тогдашним состоянием финноязычной литературы, еще незрелой по причине неразвитости самого литературного языка. В литературной поэзии преобладало рассудочно-дидактическое и морализаторское начало (Я. Ютейни, К. А. Готлунд, крестьянские поэты). На этом фоне фольклорная лирика в ее лучших образцах действительно преподносила литературной поэзии хороший урок. Влияние «Кантелетар» на финскую лирику огромно, оно будет долго чувствоваться в ней, включая крупнейших ее представителей, в том числе Эйно Лейно.
В «Кантелетар» впервые были опубликованы образцы финских народных баллад — жанр, который в литературной поэзии будет привлекать как раз Лейно, чьи «Песни Троицына дня» войдут в финскую классику.
В отличие от архаической поэзии народные баллады относятся к средневековой поэзии. Большинство балладных сюжетов являются международными, пришедшими в Финляндию, Карелию, Ингерманландию через Скандинавию. Есть еще близкие к балладам песни-легенды, сюжеты которых восходят к Библии. Сюжеты библейских притчей, равно как и международные (датско-шведские) балладные сюжеты, подверглись коренной переработке на почве карело-финской фольклорной традиции. Тем не менее в балладах проступают черты средневекового сословного общества, в центре оказывается женщина, изображаются семейные конфликты, отношения между мужем и женой, господином и служанкой, проезжим заморским (ганзейским) купцом и соблазненной крестьянской дочкой либо горожанкой из Турку. Это уже совсем другой мир по сравнению с древним языческим миром архаических рун.
Наиболее значительной средневековой балладой, включенной в «Кантелетар», явилась «Гибель Элины». Как уже упоминалось, варианты этой баллады Лённрот записал, еще будучи студентом и домашним учителем в семействе Тёрнгренов, в окрестностях имения Лаукко. Между прочим, имение с таким названием фигурирует и в балладе, в которой отразились исторические реалии. Это драма ревности и женского коварства: по ложному навету служанки Кристины хозяин имения Клаус из ревности сжигает заживо в запертом доме свою юную жену Элину и ее мнимого любовника.
В «Гибели Элины», как и в других средневековых балладах и песнях-легендах, действуют уже моральные критерии христианства: невинно загубленные вознаграждаются райским блаженством, нераскаявшихся грешников постигает Божья кара.
По этой причине балладные сюжеты оказывались малопригодными для эпического свода, целью которого было воссоздание языческой, дохристианской эпохи. Только в очень редких случаях Лённрот использовал в расширенной редакции «Калевалы» некоторые балладные элементы из «Кантелетар», причем такие, средневековое происхождение которых было не всегда достаточно очевидно. В частности, к языческим сюжетам Лённрот не без основания отнес руну «Дети Туйретуйнен» о любви-инцесте брата и сестры. Из «Кантелетар» эта руна перешла затем в цикл рун о Куллерво в расширенной редакции «Калевалы».
РАСШИРЕННАЯ РЕДАКЦИЯ «КАЛЕВАЛЫ»
В письме от 25 мая 1848 г., уже на заключительной стадии подготовки расширенной редакции «Калевалы», Элиас Лённрот делился своими проблемами с Фабианом Колланом, ученым и журналистом. Непосвященному могло показаться, писал Лённрот, что вся-то составительская работа в том только и заключается, чтобы разместить руны одну за другой в определенном порядке. Но к тому времени, продолжал Лённрот, в его распоряжении было уже столь огромное количество собранных фольклорных материалов, что из них «могло бы получиться целых семь «Калевал», и все они были бы разные».
Как признавался Лённрот, некоторое время он был на распутье, не зная, как быть — что менять и чего не менять в новой редакции по сравнению с первым изданием. В конечном итоге он решил быть «консервативным в хорошем смысле» — оставить основную сюжетную канву прежней, с немногими изменениями и перестановками, но с существенными дополнениями в деталях.
Первое издание «Калевалы» вызвало новую волну интереса к собирательской работе, в истории которой 1840-е годы считаются наиболее интенсивным десятилетием. Кроме самого Лённрота и Кастрена, к собирательской работе подключились молодые студенты, в их числе Ю. Ф. Каян, А. Алквист, Д. Э. Д. Европеус, X. А. Рейнхольм, Ф. Полей, 3. Сирелиус. Все собранные материалы поступали Лённроту, и всех этих лиц он благодарил в предисловии к «Калевале» 1849 г.
Более тщательно были обследованы уже известные фольклорные регионы и открыты новые. Наибольшей неожиданностью явилась Ингерманландия, прежде почти совсем неизвестный песенный край. Честь открытия ее фольклорных богатств принадлежит Д. Э. Д. Европеусу, молодому помощнику Лённрота, вступившего с ним в контакт, начиная с середины 1840-х гг.
Наряду с подготовкой «Калевалы» и других фольклорных изданий Лённрот вел тогда большую словарную работу, тоже связанную со сбором полевых материалов, на этот раз по разным народным говорам. Впрочем, хорошее знание народных говоров требовалось не только для подготовки словарей, но и для понимания языка фольклора, в котором встречалось немало диалектной и архаической лексики с затемненной и не всегда доступной семантикой. Не случайно Лённрот в переписке с А. Шёгреном обменивался мнениями по поводу значений тех или иных народных слов и выражений, встречавшихся в рунах.
На той стадии становления литературного финского языка словари нужны были как воздух, и Лённрот это хорошо понимал. Для большей ясности прибегнем к сравнению. Русскому читателю хорошо известно, какое огромное значение в истории русского языка имел и продолжает иметь многотомный «Толковый словарь» В. И. Даля (1801 — 1872), современника Лённрота. Словарь Даля был трудом всей его жизни, выходил он частями, а переиздается обычно по второму, посмертному, изданию 1880—1882 гг. К тому времени завершил свою работу над капитальным финско-шведским словарем и Лённрот — второй, заключительный, том вышел в 1880 г. (словарь был переиздан в 1930 и в 1958 гг.).
Одной из основных целей «Толкового словаря» В. И. Даля было преодоление отрыва современного ему книжно-письменного языка от народной основы, от живой русской речи. Даль сетовал на то, что книжный язык был засорен ненужными иностранными заимствованиями, и писал: «Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный».
Аналогичные задачи стояли и перед Лённротом с той, однако, разницей, что отношения между тогдашним книжным финским языком и живой народной речью были еще более сложными. Со времен Агриколы книжный финский язык складывался под сильным влиянием шведского языка (отчасти немецкого — Агрикола учился у Лютера в Виттенберге и формировался на его книгах). В книжном финском языке и во время Лённрота сохранилось много «шведизмов» — в лексике, в способах словообразования, в синтаксисе. Словарь Лённрота, включающий свыше двухсот тысяч слов, впитал в себя его обширные познания в области диалектной лексики. По богатству материала словарь до сих пор остается уникальным справочным источником, сыгравшим неоценимую роль в научно-литературной жизни.
Кроме того, Лённрот в 1840-е гг. участвовал также в подготовке более срочных прикладных словарей. В помощники по словарной работе к нему был первоначально подключен студент Д. Э. Д. Европеус, порекомендованный, в частности, Я. К. Гротом, знавшим его по университету. Весной 1844 г. Европеус вместе с Лённротом выехал в город Каяни для продолжительной словарной работы, для сбора языковых материалов. Одновременно он собирал и фольклор и вскоре стал одним из самых выдающихся его собирателей, первооткрывателей песен Ингерманландии.
Лённрот побывал в Ингерманландии проездом в Эстонию в 1844 г. В пограничном с Эстонией ингерманландском приходе Каттила (русск. Котлы) он записал несколько водских свадебных песен. В том же приходе свадебные песни записывали и раньше, но этим, в сущности, и ограничивались сведения об ингерманландском фольклоре до поездок Европеуса. Некоторые ориентировочные догадки о целесообразности фольклорного обследования Ингерманландии встречались у Шегрена, но до поры до времени дело откладывалось. Предстояло преодолеть инерцию, ибо Ингерманландия в глазах некоторых деятелей Общества финской литературы в Хельсинки оставалась чисто русской провинцией, не более чем пригородом Петербурга, якобы не представлявшим для финнов особого интереса в этнокультурном отношении. Европеусу и его спутнику Рейнхольму приходилось преодолевать эту инерцию, они настаивали на том, чтобы открытый ими фольклорный регион был основательно и безотлагательно обследован.
Лённрот использовал в какой-то мере собранные ингерманландские материалы, однако с подготовкой и изданием новой редакции «Калевалы» он не мог и не хотел медлить — этого не позволяли складывавшиеся общественно-политические обстоятельства.
Во второй половине 1840-х гг., накануне и в период европейских революций 1848 г., обстановка становилась тревожной также в России и Финляндии. Среди части финской интеллигенции и студенчества усиливались оппозиционные настроения, на что власти отвечали репрессивными мерами. На улицах Хельсинки студенты пели «Марсельезу» в ожидании крушения Священного союза и следили не только за европейскими событиями, но и за возможными волнениями в России, о которых ходили слухи. В секретных донесениях властей Снельмана называли «коммунистом», его «Сайма» и некоторые другие газеты были запрещены. Имея в виду ужесточение цензуры, Лённрот иронически выразился о двух цензорах «Саймы» (полагалось два!), что один из них вычеркивал газетную полосу вдоль, другой — поперек.
Сохранились любопытные архивные документы, свидетельствующие об оппозиционных настроениях в студенческой среде того времени. Один из документов (хранящийся в Военно-морском архиве в Петербурге, в фонде финляндского генерал-губернатора Меншикова) представляет собой служебное донесение проканцлера Хельсинкского университета генерала Норденстама с приложением переданного ему анонимного коллективного письма студентов, протестовавших против отправки лейб-гвардии финского стрелкового батальона на подавление венгерской революции 1848 г. Студентов волновали и события в Париже, но венгры были для финнов единоплеменниками, их судьба воспринималась особо, на что указывалось и в письме. Уже то, что на учрежденную незадолго до того должность университетского проканцлера был назначен генерал (канцлером числился наследник престола, будущий император Александр II), свидетельствовало об устрожении порядков. В своем донесении проканцлер Норденстам сообщал, что когда во время смотра упомянутого батальона генерал Вендт предложил присутствующим на площади гражданским лицам, в том числе студентам, вербоваться добровольцами для участия в венгерском походе, студенты отвечали: «В другом случае мы бы, может быть, и пошли на службу, но против своих единоплеменников не пойдем». А в групповом письме, адресованном непосредственно генералу Вендту, авторы взывали к его патриотическим чувствам и напоминали о том, что без воли народа отправка батальона будет грубым нарушением финляндской конституции. «Только собрание народных представителей, — говорилось в письме, — имеет право дать санкцию на отправку нашей гвардии за границу. Вы, как и всякий друг отечества, понимаете, с каким неодобрением встретит страна этот самовластный акт нашего почтенного Сената, члены которого готовы продать свое отечество за самое незначительное вознаграждение. Вы можете быть уверены, что вся Финляндия, сокрушаясь о беде, которая постигнет финляндскую гвардию, если только ее вынудят драться против своих единоплеменников и братьев венгров с целью подавить их стремление к свободе и независимости, — вся Финляндия скорее проклянет свою гвардию вместе с ее предводителем, нежели встретит ее благословениями и поздравлениями, когда она, посодействовав поражению венгров, вернется с пальмою победы домой».
В этой напряженной обстановке Лённрот опасался, что если он будет медлить с подготовкой «Калевалы», то с устрожением цензуры вообще не сможет ее издать. И, как показали ближайшие события, опасения его были не напрасны. Хотя цензурный устав 1850 г. вроде бы разрешал публикацию «финских песен» (видимо, народных), но когда Общество финской литературы задумало издать поэму Рунеберга «Охотники на лосей» в финском переводе, то со стороны властей последовал отказ с весьма-таки въедливым и дотошным бюрократическим разъяснением, что «песни о Финляндии не то, что финские песни. Общество хотело также издать путевые впечатления своих членов, потому что эти члены ездили для собирания древних саг. И это не дозволялось оттого, что впечатления поехавших за сагами молодых людей не суть древние саги». На финском языке не разрешалось публиковать даже официальные документы сената под тем предлогом, что «частные лица не могут обнародовать официальных бумаг не на их имя и даже не должны иметь с них копий». Эта бюрократическая казуистика основывалась на том, что финский язык не имел еще статуса официального государственного языка, и считалось делом «частных лиц» все, что собирались печатать на нем.
Но ведь и Лённрот собирался издать (от имени и на средства Общества финской литературы) не просто отдельные народные песни, но целостную композицию национального эпоса с обширным предисловием и определенным национально-патриотическим содержанием.
Лённрот спешил и успел выпустить свой труд до вступления в силу варварского цензурного устава 1850 г. Поясняя свои действия, он писал тогда: «Чтобы успеть сделать свое дело, пока еще светло, и воспрепятствовать наступлению тьмы, после чего никто работать уже не сможет, я предпринял издание новой редакции рун «Калевалы».
В общем и целом, те новые фольклорные материалы, которые поступили в распоряжение Лённрота после первого издания «Калевалы», составляли весьма внушительное количество: около 5600 вариантов рун (130 000 стихов). По подсчетам В. Кауконена, примерно треть этого нового материала была записана в Беломорской Карелии, чуть более половины в финляндской Карелии и около 22 000 стихов в Ингерманландии. Наиболее ценными для Лённрота оказались материалы Европеуса. Подсчитано, что на них опирается не менее половины дополнительного объема «Калевалы» (по сравнению с первым изданием). Преимущественно это были собранные Европеусом карельские и в меньшей степени ингерманландские материалы. Причина была не только в позднем поступлении ингерманландских материалов, но отчасти и в том, что записанные в Ингерманландии эпические сюжеты отражают уже относительно позднюю стадию их эволюции, менее архаичную, чем беломорско-карельские варианты. В Ингерманландии процветала больше лирическая поэзия, и это накладывало свою печать и на эпику. Из ингерманландских эпических сюжетов наиболее ценным вкладом в «Калевалу» явились записанные Европеусом руны о Куллерво, пополнившие в расширенной редакции цикл рун об этом герое. Не случайно Ингерманландию с ее трагической судьбой считают символической родиной фольклорного образа Куллерво, а на могильной плите Европеуса были высечены слова: «Первооткрыватель рун о Куллерво».
Если при работе над первым изданием «Калевалы» Лённрот, по его признанию, испытывал недостаток фольклорного материала и должен был очень бережно обращаться с ним, чтобы довести текст каждой руны хотя бы до двухсот стихов, то теперь у него было ощущение переизбытка материала, и ему приходилось следить за тем, чтобы в новой композиции «Калевалы» не получилось чрезмерных длиннот.
Фольклорная основа расширенной редакции «Калевалы» стала богаче, но одновременно это означало и то, что повышалась личная творческая роль Лённрота в обращении с фольклорным материалом; композиция становилась более мозаичной, отдельные стихи, образные параллели, метафоры заимствовались из большего числа источников, был более широкий выбор.
Лённрот вполне осознавал это. Возрастание личной творческой инициативы представлялось ему как продолжение и развитие собственно рунопевческой традиции. Уже сами рунопевцы, рассуждал он, исполняли руны в том или ином порядке — у разных рунопевцев и порядок мог быть разный. Кроме того, репертуар любого, даже самого крупного рунопевца, уступал количественно всему собранному фольклорному материалу. В связи с этим Лённрот писал в статье 1849 г., опубликованной в газете Снельмана «Литературблад»: «В конечном итоге, когда ни один пример какого-либо отдельного певца уже не соответствовал количеству собранных мною рун, я посчитал, что имею такое же право, каким пользуются, по моему убеждению, большинство рунопевцев, а именно: объединять руны в таком порядке, в каком они лучше всего подходят друг к другу; или, выражаясь словами руны: «сами вещими мы стали, сами вышли в песнопевцы», я стал рассматривать себя певцом в той же мере, как и они».
Лённрот мыслил себя в роли продолжателя рунопевческой традиции, но с гораздо большей степенью творческой свободы — как по сравнению с собственно рунопевцами, так и по отношению к сложившимся в науке представлениям о возникновении эпических поэм. Открывалась возможность смелее вводить в общую композицию разные фольклорные жанры, уже не претендуя на реконструкцию некоего былого сюжетного единства, а стремясь предложить максимально широкую, до некоторой степени поэтически условную картину народной жизни с ее древними мифами, верованиями, обрядами и песнями.
В расширенной композиции «Калевалы» число рун возросло до пятидесяти — вместо тридцати двух в первом издании. Руны обросли подробностями и стали длиннее — некоторые насчитывают свыше шестисот-семисот и даже восьмисот (23-я руна) стихов. Общий объем книги увеличился почти вдвое — 22 795 стихов вместо 12 078 в первом издании. Новая «Калевала» была издана тиражом 1250 экземпляров и поступила в продажу в декабре 1849 г.
ВЗГЛЯД В ЯЗЫЧЕСКУЮ ДРЕВНОСТЬ
На вопрос: о чем повествует «Калевала»? — краткий ответ содержится уже в заглавии первого ее издания: «Калевала, или Старинные карельские руны о древних временах финского народа».
Если с учетом всего того, что писал сам Лённрот о «Калевале», попытаться раскрыть содержание упомянутого заглавия, то подразумевалось примерно следующее: руны, записанные по преимуществу в Карелии, повествуют об общем древнем прошлом финских племен — предков и карел, и финнов, и эстонцев, в сущности всех прибалтийско-финских народностей.
«Калевала» — это выработанный на основе фольклорного наследия взгляд Лённрота в далекое историческое прошлое, в языческую древность. В соответствии с современными ему научными представлениями он исходил из того, что у прибалтийско-финских народностей была своя длительная этническая история; что они не всегда жили на нынешних территориях, а откуда-то пришли еще в языческие, дохристианские времена — то ли с верховья Волги, то ли с берегов Северной Двины; что в древности их предки еще не делились на карел, финнов, вепсов, эстонцев, а составляли некую этническую, этнокультурную и этнолингвистическую общность; и что именно от того древнего времени остались в их языках и культурах общие пласты, общие генетические корни.
Современные люди воспринимают мир и ориентируются в нем с помощью современных географических понятий и названий.
В древних по происхождению рунах сохранилась своя мифологическая и поэтическая география. Для древнеэпической поэзии характерно, что всегда должна быть страна эпических героев и страна тех, кто им противостоит и в противостоянии с кем и проявляется их геройство.
В собственно народных рунах эти две страны всегда присутствуют либо обязательно подразумеваются в описаниях самих странствий героев — откуда-то и куда-то, — хотя называться эти две эпические (и мифологические) страны в рунах могут по-разному.
Лённрот в единой композиции «Калевалы» обобщил эти разные названия, и ее герои странствуют между двумя эпико-мифологическими странами: Калевалой и Похъёлой. Названия эти тоже фольклорны, Лённрот не сам выдумал их.
Название эпической страны Калевала (которое в фольклоре встречается реже, чем название Похъёла) Лённрот позаимствовал из одной карельской песни-диалога, где жених, отвечая на вопрос невесты, откуда он родом, говорит, что он из Калевалы. Именно в такой форме это название в фольклоре редко, и для Лённрота упомянутая песня явилась находкой. Но зато в рунах и преданиях (у карел, финнов, эстонцев) довольно часто рассказывается о мифологических великанах по имени Калева или о «сыновьях Калевы». В рунах «сыновьями Калевы» иногда именуются эпические герои, то есть великан Калева был неким древнейшим мифологическим первопредком. Великаны обладали огромной силой, передвигали валуны и скалы. Лённрот упоминал о преданиях, в которых строителями старинных каменных церквей считались сыны Калевы, — по аналогии можно вспомнить о великанах-циклопах в древнегреческой мифологии, считавшихся строителями грандиозных сооружений, в действительности возникших еще в эпоху микенской культуры.
В мифах и преданиях Лённрот искал исторические отражения. Он понимал, разумеется, что великан Калева — мифологический образ, подобный Хийси, Лембо и другим языческим образам-духам. Но вто же время Лённрот полагал, что в народной памяти фантастический образ великана-первопредка Калевы — это образ первого поселенца, прибывшего на территорию Финляндии, населенную до этого саамами-лопарями. Собирательный образ «народа Калевы» подразумевал потомков этого мифологического первопоселенца, будущих карел и финнов.
По своей типологии карело-финская эпическая поэзия очень архаична, в ней преобладают древнейшие мифологические сюжеты; значительное место занимают космогонические мотивы, и соответственно Лённрот выстраивал свою композицию: «Калевала» начинается с происхождения мироздания и рождения Вяйнямейнена.
Мифологическая космология вообще характерна для древних эпосов. Примером для Лённрота могли быть, в частности, мифологические песни «Старшей Эдды». Там тоже есть первопредки-великаны, ётуны и турсы, — между прочим, морское чудовище-великан Ику-Турсо (Вековечный Турсо) встречается также в карело-финских рунах и в «Калевале». В мифологической эддической песне «Прорицание вёльвы» (колдуньи) читаем:
Великанов я помню,
рожденных до века,
породили меня они
в давние годы;
помню девять миров
и девять корней
и древо предела,
еще не проросшее.
В начале времен
не было в мире
ни песка, ни моря,
ни волн холодных,
земли еще не было
и небосвода,
бездна зияла,
трава не росла.
В «Старшей Эдде» есть отражения чрезвычайно архаических космогонических мифов. Например, в песне «Речи Вафтруднира» повествуется о происхождении мироздания из частей тела великана Имира.
Имира плоть
стала землей,
стали кости горами,
небом стал череп,
а кровь его морем.
(Перевод А. И. Корсуна)
Но в целом «Старшая Эдда» несет на себе печать все же более позднего, отчасти уже христианского сознания, в отличие от архаических карело-финских рун. Правда, с точки зрения современного человека, в мифологических песнях «Старшей Эдды» тоже немало противоречий. Как подчеркивал М. И. Стеблин-Каменский, крупный специалист по скандинавской литературе, в эддической мифологии прошлое и будущее «могут сосуществовать, как сосуществуют страны света, а время — начинаться снова и снова». Но все же одно из главных отличий состоит в том, что в эддических песнях, как и в Библии, мир и бытие людей в мире воспринимаются уже в гораздо большей временной и событийной протяженности, чем в карело-финских рунах, где все более статично и малоподвижно. Мировое бытие в «Старшей Эдде» наполнено трагизмом. Подобно библейскому Апокалипсису, эддические песни предсказывают гибель мира:
Братья начнут
биться друг с другом,
родичи близкие
в распрях погибнут;
тягостно в мире,
великий блуд,
век мечей и секир,
треснут щиты,
век бурь и волков
до гибели мира;
щадить человек
человека не станет.
Прорицательница-вёльва в эддической песне видит мировое бытие от его начала до завершения — на то она и прорицательница. Трагическая предопределенность придает бытию внутреннее движение и протяженность. Охватываемое прорицанием время вмещает в себя, кроме богов и их гибели, множество людских судеб, множество поколений, все напряжено до предела и движется к концу. Возвращается как бы изначальный хаос, меркнет солнце, земля погружается в море, срываются с неба звезды, и черный дракон, пролетая над трупами, уносит саму прорицательницу.
В Библии главными событийными вехами являются сотворение мира, изгнание перволюдей из рая, всемирный потоп, вавилонское смешение языков и рассеяние народов, рождение, распятие и воскрешение Христа Спасителя. Внутри этого событийно-хронологического линейного ряда могли остаться некоторые несогласованности с точки зрения строгой логики. Еще английский этнограф Дж. Фрэзер в работе «Фольклор в Ветхом Завете» обратил внимание на то, что в Книге Бытия, в разных ее главах, по-разному излагается порядок появления человека и живых существ природы на земле: если в первой главе сообщается, что сначала возникли рыбы, птицы, звери и затем человек (то есть творение шло по восходящей, от низшего к высшему), то в следующей главе порядок нисходящий — сначала были сотворены мужчина и женщина, затем живые твари природы. Но и эти несогласованности сливались в Библии в единый линейный событийно-временной ряд.
Лённрот, конечно же, имел в виду эти великие литературные образцы, когда составлял «Калевалу». Одной из его задач было как раз то, чтобы в какой-то мере — в пределах возможностей — преобразовать фольклорно-мифологическое циклическое время-круговорот в относительно линейное время, напоминающее отчасти библейское и более близкое современному сознанию. В «Калевале» Лённрот должен был раздвинуть время, придать ему протяженность, наполнить его до некоторой степени поступательным историческим движением, для чего необходимо было расположить определенным образом фольклорный материал, придать очередность фольклорно-мифологическим событиям. Как это осуществилось в «Калевале», мы увидим в дальнейшем, а сейчас остановимся на специфике архаического мифологического сознания, на его отличиях от сознания современного.
Отличия эти касаются прежде всего восприятия времени и пространства, двух основных категорий, характеризующих тот или иной тип мировоззрения.
Современный человек сознает, что он живет в определенном отрезке вечного и бесконечного времени. И позади его — временная бесконечность, обращенная в прошлое. И впереди его — временная бесконечность, обращенная в будущее. Сам человек — точка между двумя бесконечностями. Для него существует абстрагированное вечное время, у которого нет ни начала, ни конца. Все конечное помещается внутри этого абстрактного бесконечного времени — сроки жизни отдельного человека, поколений, народов, цивилизаций, человечества, рождение и гибель планет, созвездий, галактик.
В отличие от мифов о происхождении мира из птичьего яйца или частей тела великана, современный человек не может указать: вот отсюда все началось, ибо предполагается, что и раньше было нечто, и еще раньше, и еще раньше — до бесконечности. Время для современного человека бесконечно и линейно направлено — от прошлого к будущему, поэтому его называют еще векторным временем.
В архаических мифах время циклично и имеет некое абсолютное начало. Мифы повествуют об «изначальном времени», когда все начиналось, когда возник круговорот бытия. А дальше все движется по кругу — природные явления, времена года, небесные светила, сменяющиеся поколения. Такое восприятие времени называют цикличным.
Важно еще подчеркнуть, что цикличное восприятие времени предполагает его обратимость, в отличие от необратимости линейного потока времени в его восприятии более поздним историческим сознанием. Для первобытного сознания время еще не было необратимым движением от прошлого к будущему; архаическая поэзия еще не умела изображать движение времени — показать это движение в «Калевале» стало уже задачей Лённрота. В древних мифах прошлое и настоящее сосуществуют как бы слитно и взаимообратимо; универсальным для древности стал миф о «вечном возвращении», столь привлекательный для некоторых поздних мыслителей (Фр. Ницше, О. Шпенглер, А. Тойнби), отказавшихся от категории линейного историзма.
Теперь кратко о восприятии пространства. В мифах пространство тоже не бесконечно. Хотя сама мифологическая картина сотворения мира может быть грандиозной, но бесконечность ей все же не свойственна. В архаических рунах звездное небо предстает в образе «пестрой крышки», пестрого свода, выкованного Илмариненом, который в этом случае выступает не просто искусным кузнецом, а божеством-демиургом. Небо и звезды в архаических рунах как бы в пределах досягаемости, солнце и луну можно украсть с неба и спрятать внутри каменной горы, с ними можно даже разговаривать, обращаться к солнцу с просьбами и сокровенными желаниями. Первоначально это были еще не поэтические метафоры, а мифологические верования; метафорами они стали позднее.
Пространство, как и время, не обладает в мифологических рунах непрерывностью, оно как бы скачкообразно и фрагментарно. Герой присутствует сейчас здесь, а в следующий момент он может объявиться за тридевять земель, никаких особых объяснений для таких фантастических перемещений не требуется. Пространство в виде мифологического космоса как бы всегда при герое, оно перемещается вместе с ним, сопутствует ему, и он в центре его. Пространство огромно и панорамно — с широким круговым обзором всех стран света. Это характерно вообще для эпической поэзии, в том числе для русских былин. Страны света обозреваются обычно с какой-нибудь высоты. Вот как описывается круговое пространство с высоты, например, в былине «Илья Муромец и Калин-царь». В эпизоде Илья обозревает перед битвой огромное татарское войско.
Тут старый казак да Илья Муромец,
Он поехал по раздольницу чисту полю.
Не мог конца-краю силушке наехати.
Он повыскочил на гору на высокую,
Посмотрел на все на три-четыре стороны,
Посмотрел на силушку татарскую,
Конца-краю силы насмотреть не мог.
И повыскочил он на гору на другую,
Посмотрел на все три-четыре стороны,
Конца-краю силы насмотреть не мог,
— и так повторяется еще третий раз: круговой обзор с высокой горы. Причем в былинах это может быть невероятно далекий обзор — в северном направлении Илья видит в иной былине ледяные горы, а в южном — Киев-град.
Подобный же панорамный обзор пространства, охватывающий все страны света, не раз встречается и в «Калевале». В сорок третьей руне герои плывут по морю на паруснике с похищенным из Похъёлы Сампо, и Вяйнямейнен в ожидании погони колдуньи Лоухи предлагает молодому Лемминкяйнену взобраться на мачту для кругового обзора. Обратим внимание на огромность обозреваемого с высоты пространства. Вяйнямейнен говорит:
«Ты взойди наверх, на мачту,
Влезь на парусные стеньги!
Посмотри вперед на воздух,
Посмотри назад на небо, —
Ясны ль воздуха границы,
Все ли ясны иль туманны?»
Спорый Лемминкяйнен исполняет просьбу и совершает панорамный обзор:
На восток, на запад смотрит,
Он на юг глядит, на север,
И на Похъёлу глядит он,
Говорит слова такие:
«Впереди нас воздух ясен,
Но за нами небо смутно,
Мчится с севера к нам тучка,
Облачко идет с заката».
(Здесь и далее перевод Л. П. Бельского)
Показавшееся облако — это Лоухи в облике огромной птицы с тысячей воинов на крыльях.
Мифологизм «Калевалы» ощущается, между прочим, и в том, что в подобных картинах присутствует не просто море, не просто небо и не просто земля, а мифологический космос в целом, со всеми первостихиями в их огромности и единстве.
Особенно в начальных рунах расширенной редакции «Калевалы» Лённрот постарался придать картинам сотворения мира и рождения Вяйнямейнена еще более подчеркнутый космологический масштаб, чем это было в первом издании эпоса.
В первой руне расширенной редакции изображается изначальный хаос, когда организованного космоса еще нет. Для его возникновения в более логической последовательности Лённрот ввел в руну образ Илматар, дочери воздушного пространства, символизирующей акт первотворения мироздания из хаоса. В народных рунах этого образа не было, там участником космогонического акта был сам Вяйнямейнен, и выходило, что его рождение предшествовало рождению мироздания. С точки зрения древнего мифологического сознания это вполне объяснимо: в наиболее архаических мифах Вяйнямейнен был демиургом-творцом — о его космогонической роли потом будут упоминания и в «Калевале», но мимоходом, без того, чтобы это стало линией сюжета.
С точки зрения формальной логики такое противоречие в общей композиции «Калевалы» вызвало возражение со стороны критики, и Лённрот прибег к образу Илматар. В первой руне дочь воздушного пространства простирается над водной стихией, соучаствуя в рождении мира, и в ее же чреве происходит зачатие Вяйнямейнена. Илматар, олицетворение воздушной первостихии, соединяется с водной первостихией, а птица над морем ищет кусочек тверди для гнезда и видит выступившее из волн колено Илматар (в народных рунах это было колено Вяйнямейнена). Наступает кульминация космогонического акта: гнездо с сидящей птицей обжигает колено, яйца скатываются в море, но из них рождается упорядоченный космос.
Не погибли яйца в тине
И куски во влаге моря,
Но чудесно изменились
И подверглись превращенью:
Из яйца, из нижней части,
Вышла мать-земля сырая;
Из яйца, из верхней части,
Встал высокий свод небесный.
Из желтка, из верхней части,
Солнце светлое явилось;
Из белка, из верхней части,
Ясный месяц появился;
Из яйца, из пестрой части,
Звезды сделались на небе;
Из яйца, из темной части,
Тучи в воздухе явились.
Дева Илматар сама принимается обустраивать землю и море для жизни людей.
Только руку простирала —
Мыс за мысом воздвигался;
Где ногою становилась —
Вырывала рыбам ямы;
Где ногою дна касалась —
Вглубь глубины уходили.
Где земли касалась боком —
Ровный берег появлялся.
Только после этого рождается из чрева Илматар Вяйнямейнен, зачатый ветром. Много лет прождал он своего появления на свет и затем еще пять лет качался на волнах, пока не выбрался на сушу. Подобное рождение Вяйнямейнена Лённрот в своих рассуждениях (отразившихся в его письмах) пытался подкрепить этимологическими ссылками на то, что имя Вяйнямейнен имеет общее с «вээн эмонен» (мать воды). Как считают исследователи, имя Вяйнямейнена действительно этимологируется с водной стихией.
Вроде бы все стало логичнее. Но если подходить только с точки зрения формальной логики, то и теперь можно при желании указать на несогласованности. В третьей руне мудрый Вяйнямейнен и дерзкий юнец Еукахайнен состязаются в пении, в силе магических заклинаний, и когда старец слышит похвальбу соперника, будто он в изначальные времена сотворил порядок на земле, следует возражение:
Лжешь ты свыше всякой меры!
Никогда при том ты не был,
Как пахали волны моря,
Как выкапывали глуби
И как рыбам ямы рыли,
Дно у моря опускали,
Простирали вширь озера
Выдвигали горы кверху
И накидывали скалы.
А в седьмой руне Вяйнямейнен, рекомендуя Илмаринена как искуснейшего кузнеца, способного выковать Сампо, подкрепляет это напоминанием о том, что в изначальные времена Илмаринен выковал небосвод, то есть тоже был в числе «трех мужей» — демиургов.
Подобные формально-логические несовместимости и противоречия невозможно было совершенно устранить из общей композиции «Калевалы» — иначе пришлось бы вообще отказаться от ее фольклорно-мифологической основы. Так что выискивать противоречия в «Калевале» — не очень благодарное и разумное занятие. Полезнее осознать, что древнее мифологическое сознание воспринимало многое совсем иначе, чем современный человек.
Кстати сказать, на некоторые специфические черты мифологического сознания обратил внимание еще в середине 1840-х гг. Роберт Тенгстрём в своих откликах на первое издание «Калевалы». Это был очень талантливый и многообещающий молодой философ, к сожалению рано умерший. Две его статьи о «Калевале» по праву считаются самыми глубокими критическими откликами того времени, оказавшими несомненное влияние на Лённрота при подготовке расширенной редакции эпоса.
Роберт Тенгстрём тонко уловил особенности мифологического сознания, подчеркнув, что мифы не признают ни современной хронологии, ни наших пространственных представлений, ни того, что мы теперь называем категорией детерминизма и причинно-следственных отношений. В мифологическом эпосе нет собственно истории н смысле изображения конкретных исторических событий, но историчны, по словам критика, «его общий колорит, пронизывающий дух, мировосприятие в целом. И только это внутреннее содержание, и дух эпической поэзии представляют исторический интерес».
Другим талантливым истолкователем «Калевалы» и фольклорномифологического наследия был М. А. Кастрен. После своего предисловия к шведскому переводу первой редакции «Калевалы» он все более углублялся в ее проблематику, особенно в этнографическом плане, с точки зрения научного объяснения древних обычаев и представлений. Примечательны в этом отношении две его работы: прочитанный в 1849 г. научный доклад о древней прародине финнов («Где находилась колыбель финского народа?») и университетский курс лекций по финской мифологии, опубликованный в 1853 г? В этих работах Кастрен выдвинул алтайскую теорию происхождения финно-угорских народов и утверждал их родство с самодийскими народами, отыскивал общее в их фольклоре и мифологии. Наряду с этим Кастрен дал первое глубокое этнографическое истолкование эпизодов сватовства в рунах, специфики древних брачных отношений. В фольклоре финно-угорских, самодийских и некоторых тюркских племен Сибири он обнаружил сходные сюжеты о далеких и опасных поездках героев за женами, которых добывали в чужих родах, ибо внутриродовые браки были запрещены. Отражение экзогамных брачных отношений усматривал Кастрен и в поездках калевальских героев в Похъёлу. Причем если в докладе 1849 г. он говорил еще о межплеменных брачных отношениях, то в курсе лекций по мифологии пользовался уже понятием «род»: браки были межродовыми, и, следовательно, две эпические страны — Калевала и Похъёла — были символами двух родовых общин.
Вместе с тем Кастрен подчеркивал весьма специфический характер первобытных экзогамных отношений, далеких от идиллических представлений о любви и полюбовных союзах. Жен добывали часто во враждебных родах, их могли попросту похищать с применением силы либо платили выкуп. Об индивидуальном чувстве любви, как писал Кастрен, еще не могло быть речи, женщина оставалась скорее невольницей. В этом смысле архаические «азиатские» песни о сватовстве, по его словам, не имели еще ничего общего с рыцарской лирикой европейского Средневековья, с рыцарским культом поклонения и служения женщине. Впрочем, в «Калевале» Кастрен находил уже нечто и от индивидуального чувства, но все же с примесью «азиатских» пережитков. И что весьма характерно для взглядов Кастрена-этнографа, он усматривал в этих сдвигах не просто влияние Лённрота как составителя «Калевалы», а признаки эволюции самой фольклорно-мифологической традиции, ее изменения в ходе исторического времени.
Эволюционировало, по убеждению Кастрена, само мифологическое сознание, что отразилось и в космогонических мифах. Миф о происхождении мироздания из яйца птицы Кастрен считал самым древним, самым архаичным. Для древнего человека было доступнее всего, под воздействием естественно-биологического опыта, воспринять яйцо как изначальный зародыш-эмбрион, из которого, подобно птенцу, развился универсум. И уже здесь Кастрен усматривал момент эволюции, с которым так или иначе имело дело первобытное сознание. Но это была еще эволюция стихийно-биологическая, протекавшая в самой природе, не столько в сфере сознания. Мир воспринимался как природно-органическая сущность, и происхождение у мира тоже было органическое — мир «вылуплялся» из хаоса, как птенец из яйца.
Следующей ступенью эволюции космогонических мифов, по Кастрену, было перенесение акцента со стихийно-органического начала на духовное начало — на силу магии, силу волшебного слова-заклятия, вещего песнопения. Кастрен считал веру в магию слова особенно присущей мифологическим рунам. Причем, говоря о «вере в слово», он особо подчеркивал, что здесь имелась еще в виду именно древняя языческая вера, а не последующее влияние библейской космогонии (о которой евангелие от Иоанна повествует так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»).
Процесс эволюции, как считал Кастрен, коснулся и фольклорно-мифологических образов — Вяйнямейнена, Илмаринена, Лемминкяйнена. Некогда они были божествами, и в них все еще сохранялось нечто от древних божеств, но вместе с тем они представляли собой уже промежуточную стадию между божествами и людьми.
В целом, как полагал Кастрен, карело-финская эпическая традиция пребывала еще на относительно ранней стадии эволюции; более развитые национальные интересы еще не получили в рунах выражения, в центре оставались родовой быт и межродовые отношения.
Это были весьма глубокие суждения, в которых подчеркивалось коренное отличие древнего мифологического сознания и древних обычаев от сознания и обычаев современных людей.
Без учета такого коренного отличия очень многое в архаических рунах современному читателю трудно понять и еще труднее непосредственно почувствовать, как нечто для древнего человека совершенно естественное, первостепенно необходимое и жизненно важное. Прежде всего это касается восприятия природы и мифологического космоса как непосредственного окружения, непосредственной среды обитания первобытного человека. Хотя мы и называем сегодня наш век космическим веком, говорим много об экологии и разных космических излучениях, однако наше отношение к природе и космосу по сравнению с первобытным восприятием принципиально иное, куда более абстрагированное, опосредованное научными представлениями, всей технической цивилизацией, всем устройством нашей жизни. Современные люди в сильной степени изолированы, отстранены и от природы, и от космоса, тем более в том мифологическом, очень предметном восприятии, которое было характерно для древности. Современный городской, да и сельский человек живет в многоэтажном доме, за продуктами ходит в магазин, на работу добирается транспортом, далекие поездки предпринимает на поезде или самолетом, о космических полетах и излучениях он узнает из газет и журналов, на небо ему заглядывать недосуг — это он предоставляет делать астрономам и прочим теоретикам с их сложными приборами и техническими расчетами.
В отличие от этого, первобытный охотник и рыболов непосредственно жил в окружающем и доступном его обозрению космосе, в мире природы, частью которой он являлся. Он ориентировался по солнцу, луне и звездам во времени и пространстве — ведь ни часов, ни компаса у него не было. И погоды ему назавтра никто не предсказывал, он определял все сам — по состоянию неба при вечерних закатах, по направлению ветра, по шуму волн. Он наверняка не имел представления о том, где находятся Америка или Австралия и существуют ли другие материки вообще; он не знал расстояний до небесных светил, но встречался он с ними воочию повседневно и круглосуточно, ибо вместе с рыбными озерами и охотничьими угодьями они составляли его дом, его среду обитания. О природе и космосе он знал не из школьных учебников и газет, а из каждодневного опыта.
Вот почему в «Калевале» небесные светила как бы постоянно сопутствуют человеку, о них часто говорится в рунах, они — часть быта и непременное условие человеческого существования; с возникновения мироустройства все начинается, без солнца нет жизни ни людям, ни остальной природе, и вместе с тем небесные светила украшают мир, с ними сравнивается в рунах женская красота.
Этот мощный первобытно-мифологический космизм насквозь пронизывает «Калевалу» и придает ей неповторимое своеобразие. Он связан с древним мировосприятием, в том числе с древними представлениями о времени и пространстве. В собственно народных рунах все может происходить на удивление быстро, скачкообразно и нелогично с точки зрения современного человека. Например, в мифологической руне рождение Вяйнямейнена или Илмаринена может изображаться и таким образом:
Ночью родился Вяйнямейнен,
днем отправился в кузницу,
выковал железного коня… и т. д.
В реальности подобную «скачкообразность» трудно себе представить — это необходимо воспринять именно как миф с его особыми понятиями о времени и особой эстетикой. Миф предполагает, что Вяйнямейнен сразу рождается старым и мудрым, это его постоянные характеристики-эпитеты.
В «Калевале» Лённрот стремился избегать слишком больших разрывов между архаическим и современным сознанием, но все-таки аромат мифа ему хотелось сохранить. В этом была своя прелесть, свое поэтическое обаяние.
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА «КАЛЕВАЛЫ»
Пятьдесят рун расширенной редакции эпоса составляют единое целое, и вместе с тем в этой целостности можно выделить ряд относительно самостоятельных сюжетных циклов. Руны в каждом из циклов группируются либо вокруг определенного эпического героя, либо вокруг главного события с участием нескольких героев, либо предлагается развернутая картина старинного народного обычая, например, свадебного обряда с обширным циклом свадебных песен.
Для начала обратимся к одному из последних писем Лённрота к Гроту, где он по просьбе последнего специально поясняет структуру расширенной редакции «Калевалы». Письмо это от 12 февраля 1882 г., и не исключено, что к тому времени в Петербургской Академии наук, членом и вице-президентом которой был Грот, уже возник вопрос о полном поэтическом переводе «Калевалы» на русский язык, который и был затем осуществлен Л. П. Бельским и опубликован в 1888 г. Непосредственным наставником Бельского являлся академик Ф. И. Буслаев (переводчик благодарил его в посвящении), Грот выступил в роли рецензента рукописи и, видимо, имел представление о ходе многолетней работы над переводом с самого ее начала.
Процитируем значительную часть письма Лённрота. ибо в нем изложены его собственные представления о структуре «Калевалы». Лённрот писал Гроту:
«Из письма, которое недавно написал мне наш общий друг В. Лагус, я вижу, что ты желаешь получить краткий отчет об основных соображениях относительно последовательности расположения dvh «Калевалы», особенно во втором издании. Я хочу исполнить твое желание и делаю это с тем большим удовольствием, что при этом оживают воспоминания о прошлых временах и особенно о нашей совместной поездке в Аавасаксу. При расстановке рун «Калевалы» мне прежде всего хотелось, чтобы руны о Вяйнямейнене и другие были расположены в той последовательности, которую обусловливает их содержание, — так, чтобы не возник разрыв в естественном ходе событий. Однако во время первого издания в 1835 г. не было собрано так много рун, как при более позднем издании 1849 г., что побудило меня внести во второе издание некоторые изменения также и в порядок расположения рун. Таким образом, в песнях 1-10 теперь рассказывается о Вяйнямейнене, Еукахайнене и Илмаринене без какого-либо разрыва в содержании. В связи с этим далее следует сватовство в Похъёлу, которое дает повод к появлению неустрашимого Лемминкяйнена, также пытающегося посвататься к прекрасной деве Похъёлы (песни 11-15). После неудачи Лемминкяйнена Вяйнямейнен и Илмаринен выступают снова и продолжают свое сватовство, которое для последнего имеет счастливый конец, и в итоге была отпразднована пышная свадьба (песни 16-25). Решение Лемминкяйнена отомстить за обиду, нанесенную ему, является переходом к описанию подвигов Лемминкяйнена, поведанных в песнях 26-30. Вслед за этим в песнях 31-36 следуют руны о Куллерво, составляющие эпизод, который хотя и не находится в близкой связи с прочими, но и не стоит совсем изолированно», — Лённрот ссылался на то, что Куллерво явился виновником гибели жены Илмаринена и что в самом конце цикла рун о Куллерво на сцену выходит Вяйнямейнен, чтобы произнести над телом несчастного героя прощальное и назидательное слово.
Отметим еще, что в упомянутом письме Лённрот считал расширенную редакцию «Калевалы» 1849 г. окончательной, так как именно в этой редакции «руны стали более известны и к ним чаще обращаются». То есть расширенная редакция получила к тому времени признание и стала канонической — с момента ее издания прошло уже более тридцати лет.
Как составитель Лённрот стремился к тому, чтобы помимо общих сюжетных связок, скрепляющих всю композицию, каждая группа рун имела свою кульминацию, свое нарастание драматического действия. Это требовало немалого умения и развитого эстетического вкуса, учитывая, что для героического эпоса в собственном смысле слова, с прославлением ратных подвигов героев, карело-финские руны не дают достаточно богатого материала. В них не изображаются сражения и ристалища, нет боевых дружин и походов. Это мифологический эпос, и конфликты тоже мифологические. Правда, в рунах упоминаются мечи и копья, но воинская слава в общем-то не воспевается. Герои рун состязаются не столько на поле брани, сколько в силе магических заклинаний. Не случайно в финском языке слово «герой» (sankari) происходит от древнешведского «sangare» (певец). И главным героем «Калевалы» становится вещий певец-заклинатель Вяйнямейнен.
В первых двух рунах, повествующих о происхождении и обустройстве мира, кульминацией является эпизод с гигантским дубом, грозящим закрыть своей кроной солнце и лишить людей света и тепла. Эпизод представляет собой один из вариантов широко распространенного у многих народов мифа о мировом древе — это могло быть и космическое древо как ось и опора мироздания, и древо жизни и плодородия, и древо зла и смерти. К последнему варианту имеет отношение и карело-финский сюжет о гигантском дубе. В руне ищут силача-дровосека, который смог бы повалить дерево. По законам фольклорной поэтики, любящей контрасты, силачом оказывается вышедший из моря миниатюрный герой, мальчик-с-пальчик. Вяйнямейнен удивлен:
Что ты, право, за мужчина,
Что за богатырь могучий?
Чуть покойника ты краше,
Чуть погибшего сильнее!
Но чудесный малютка превращается в великана и справляется с делом. Лённрот стремился придать картине грандиозные, космические масштабы; части сваленного дуба — ствол, ветви, листья — покрывают все страны света и обладают волшебными свойствами.
Следующие четыре руны «Калевалы» (третья — шестая) составляют целостный цикл, скомпонованный Лённротом из разных фольклорных песен, которые в устном исполнении не имели между собой прямых сюжетных связей и общих героев. Дерзкий Еукахайнен повержен магической мудростью Вяйнямейнена и обещает ему в жены свою сестру. К этому фольклорному сюжету Лённрот присоединил другой фольклорный сюжет о девушке, которая при встрече с незнакомцем в лесу отказывается от свадебных даров и затем, несмотря на уговоры матери, кончает с собой. Девушка из этого сюжета стала в «Калевале» сестрой Еукахайнена и получила имя Айно. К двум фольклорным сюжетам был подключен третий, в котором Вяйнямейнен ловит рыбу и к нему из волн является дева-лосось, не узнанная им, и потому она насмехается над старцем. И, наконец, в цикл вошел четвертый фольклорный сюжет, в котором во время поездки Вяйнямейнена на волшебном коне по морю его пытается подстрелить из лука злой Лаппалайнен, но убил только коня. В «Калевале» Лаппалайнен стал Еукахайненом, его злодеяние — месть Вяйнямейнену за прежнее свое унижение и гибель сестры. Как и водится в эпике, Еукахайнен стреляет троекратно, причем стрелы летят в космических измерениях мифа: первая стрела пролетела в небо (верхний мир), вторая — в Туонелу (подземный мир), но при этом содрогнулась земля, и только третья попала в коня.
Из этого примера видно, как Лённрот компоновал сюжетные циклы из разных фольклорных песен, исполнявшихся в народе отдельно. Но это еще не все. Лённрот не только придавал единообразие именам, вписывал сюжетные связки, но отчасти эстетически переоформлял фольклорный материал, усиливал психологическую мотивацию поступков героев, вносил какие-то этические коррективы, когда фольклорные коллизии и развязки казались слишком жестокими. А в фольклоре, особенно в песнях балладного типа, развязки и впрямь могут быть жестокими и кровавыми; есть сюжеты о женоубийцах, мужеубийцах, детоубийцах и самоубийцах. В упомянутой песне, использованной Лённротом в измененном виде, несчастная героиня вешается на девичьем поясе и лентах. В «Калевале» же трагический образ Айно предстает уже в ином художественном оформлении. Лённрот стремился углубить психологизм, передать внутренние переживания героини, ее горе и сознание личной несвободы, мотивируя это тем, что мать Айно из корыстных целей хочет выдать ее за знатного старца Вяйнямейнена; кроме того, Айно — как бы откупной дар ее злосчастного брата. Как мы помним, мотив купли-продажи невесты, сама эта устойчивая словесная формула в свадебных песнях и обрядах давно интересовали Лённрота, начиная с первой его фольклорной поездки 1828 г. Ведь до сих пор в финском языке слово «naimakauppa» остается употребительным, и Лённроту хотелось выяснить его этнографическую историю, его корни в старинных народных обрядах.
Но вместе с тем Лённроту представлялось необходимым опоэтизировать в «Калевале» трагическую судьбу Айно, эстетически скрасить ее гибель. В «Калевале» Айно гибнет не в результате самоубийства, а скорее от горя и фантастических видений, родившихся в ее воспаленном сознании. Она долго блуждает в глухом лесу, приходит на берег моря и, желая присоединиться к трем девам на скале посреди волн, погружается в пучину.
В «Калевале» скомпонованный микросюжет дальше развивается таким образом, что слух о гибели Айно доходит до Вяйнямейнена, и теперь наступает его черед печалиться. Он тоскует по ней и в то же время не узнает ее в образе девы-лосося. В «Калевале» все изображено таким образом, что это как бы видение в его собственном сознании, укор совести за случившуюся драму. Оттого еще больше его растерянность и угнетенность мыслью о старости, о которой ему напоминает дева Велламо.
Тут-то старый Вяйнямейнен
Головой поник печально,
Шапка на сторону сбилась;
Сам сказал слова такие:
«О я, глупый и безумный!
Человек я без рассудка!
Был мне дан и ум здоровый,
И рассудок был дарован,
И отзывчивое сердце.
Прежде я имел все это,
А теперь уж все исчезло
В хилой старости печальной
И в упадке сил бывалых;
Мой рассудок точно умер,
Прозорливость отлетела,
Стал я вовсе бестолковым».
Хотя отдельные строки этого отрывка фольклорны по своему происхождению, однако психологический рисунок именно в таком виде, в каком он предстает в «Калевале», является сотворчеством Лённрота. Собственно фольклорным эпическим героям в архаических рунах в общем-то не свойственно печалиться о старости и думать о смерти, потому что они происходят от древних мифологических божеств и как божества бессмертны, хотя и обрели некоторые человеческие качества. Как уже говорилось, архаические герои не очень-то и ощущают свой биологический возраст, скоротечный ход биологического времени. Их возраст раз и навсегда определен поэтикой и эстетикой эпоса, он — величина постоянная и неизменная. Вяйнямейнен всегда стар и мудр, Лемминкяйнен всегда молод и цветущ, что тоже предписано эпической поэтикой. Конечно, какие-то психологические сдвиги могут быть в рунах, как, например, в том же сюжете о Вяйнямейнене и деве-лососи, но в задачу Лённрота входило усиление психологизма уже хотя бы потому, что в результате соединения разных фольклорных сюжетов герои проявляли себя в разных ситуациях и становились более многосторонними.
После огорчений с рыбной ловлей Вяйнямейнен вопрошает себя:
Не могу совсем понять я,
Как мне быть и что мне делать?
Как прожить мне в этом мире,
Как скитаться в здешнем крае?
Если б мать в живых осталась,
На земле жила б родная,
Мне тогда б она сказала,
Что теперь с собой мне делать,
Чтоб печали не поддаться,
Не погибнуть от унынья
В эти дни мои плохие,
Время горести жестокой!
Родная мать в могиле услышала мольбу Вяйнямейнена и посоветовала ему ехать в Похъёлу свататься, там девиц предостаточно. Так начинается первое путешествие-сватовство в «Калевале», и затем их будет еще несколько. О «Калевале» даже сказано, что это не столько эпос героических сражений, сколько повествование о походах-путешествиях за невестами с выполнением разного рода трудных задач, которые полагались женихам по законам древней мифологии. Как раз в этой поездке Вяйнямейнена подстерегает Еукахайнен и убивает коня, но могучий орел доставляет героя до цели. Так начинается в «Калевале» первое знакомство с Похъёлой, холодной страной Севера, где владычествует колдунья Лоухи. У обитателей Похъёлы и жителей Калевалы установились сложные взаимоотношения — они не только вступают в брачные союзы, но и соперничают и враждуют между собой.
Здесь мы должны обратить внимание на одну общую черту эпической поэзии разных народов. Это необходимо сделать во избежание упрощенного взгляда на «Калевалу» и роль Лённрота в ее композиции.
Иногда о «Калевале» судят таким образом, что построение ее основного конфликта — соперничество двух эпических стран, Калевалы и Похъёлы, — является всецело композиционным новшеством Лённрота по отношению к собственно народным рунам. В этом случае невольно преувеличивается влияние «Илиады» и других классических эпосов, которые служили для Лённрота примером.
Влияние классических эпосов, разумеется, было, но нечто существенное шло в этом отношении и от собственно народной традиции, от карело-финских эпических рун.
Для героического эпоса, независимо оттого, представлен ли он в виде отдельных песен (как, например, русские былины) или же в виде целостной поэмы (как «Илиада»), вообще характерно соперничество, борьба двух противостоящих миров — своего и чужого. Всегда должны быть герои-антагонисты. В архаических эпосах это может быть борьба с мифологическим чудовищем, драконом, злой колдуньей. В эпосах с более поздними историческими отражениями это может быть борьба с этническими иноплеменниками или иноверцами, с иноземными нашествиями (осада Трои в «Илиаде», нашествие гуннов в «Старшей Эдде», борьба с монголо-татарским игом в былинах, борьба с сарацинами в «Поэме о Сиде»).
Поездки в Похъёлу и соперничество с нею, борьба за Сампо и за небесные светила — все это есть в собственно народных рунах, только Лённрот обобщил эпизоды в сквозном сюжете целостной композиции.
Как и многое другое в рунах и в «Калевале», образ мифической страны Похъёлы многослоен, в нем отразились разные по времени происхождения мифологические пласты. В своих древнейших космогонических истоках Похъёла — это некий «нижний мир», куда погружается солнце на долгие зимние ночи. В «Калевале» Лоухи запирает солнце в каменную гору, Илмаринен пробует выковать новое, но оно не светит, и тогда он по совету Вяйнямейнена изготовляет ключи, которыми открывают запоры в каменном тайнике.
Вместе с тем Похъёла — это страна со своим народом и обычаями, Лоухи встречает пришельцев не только как врагов, но и как гостей, выдает за них замуж своих дочерей, требуя, однако, выполнения определенных условий.
Весьма важное место в «Калевале» занимает цикл рун о Сампо, точнее два цикла, размещенные в разных частях композиции — сначала в рунах 11-15 и затем в рунах 39-43. В первом случае повествуется об изготовлении Сампо по требованию Лоухи в качестве свадебного подарка-выкупа, во втором случае эпические герои похищают Сампо у эгоистичной колдуньи.
Между прочим, исследователи считают, что появились эти два сюжетных мотива в обратном порядке по сравнению с тем, как они представлены в «Калевале»: мифологический мотив похищения первобытным человеком каких-то благ у злых сил природы древнее мотива изготовления-производства этих благ самим человеком. В рунах чудо-мельницу Сампо кует искусный кователь Илмаринен — даже при волшебно-сказочном ее появлении на свет и ее волшебных свойствах, это все же символ развитого кузнечного ремесла, а не простое собирательство даров природы на ранней стадии дикости.
Уже в самих народных рунах образ Сампо как древний мифологический символ чрезвычайно многозначен. Он зародился в мифологических представлениях первобытных людей, может быть, тысячелетия тому назад и в течение истекших тысячелетий многократно переосмыслялся — вплоть до того, что и сами рунопевцы в XIX в. уже не могли объяснить, что означает слово «сампо» (или нечто созвучное с этим словом, поскольку и само слово в рунах варьируется, подчас изменяясь до неузнаваемости). Не удивительно, что в науке существуют десятки толкований этого мифологического образа-символа, и однозначного ответа здесь, по-видимому, вообще быть не может.
Одно более или менее ясно: Сампо — это нечто желанное и благодатное, с чем связано процветание и счастье людей — благополучие рода, племени, народа, то, о чем всегда мечталось и что было некогда достойно культового поклонения. С образом Сампо связывались представления о плодородии земли, изобилии даров моря, все достигнутые и воображаемые культурные блага, включая кузнечное ремесло. В образе Сампо угадываются и древнейшие космологические представления; как уже говорилось, в рунах этот образ чаще всего упоминается с параллельной, как бы поясняющей, метафорой «пестрый свод», «пестрая крышка». В связи с этим в науке высказывалось мнение, что Сампо символизирует звездный небосвод и одновременно ось мироздания, скрепленную неподвижной Полярной звездой. Ведь небо для первобытного человека не было какой-то абстрактной сферой, оно воспринималось очень конкретно и осязаемо. У древнего человека небо в виде «пестрой крышки» всегда было над головой, и вместе с тем это образ-метафора.
Лённрот в «Калевале» избрал воплощением образа Сампо чудо-мельницу, и хотя это только один из встречающихся в фольклоре вариантов многосложного символического образа, однако и в «Калевале» он символически многозначен — это Лённрот постарался учесть. Сампо в «Калевале» не просто самомолка, а нечто связанное с первостихиями, землей и морем.
Когда трое героев — Вяйнямейнен, Илмаринен и Лемминкяйнен — прибывают в Похъёлу за Сампо, спрятанное колдуньей Лоухи в горном тайнике за запорами, они обнаруживают, что оно вросло своими корнями глубоко в землю и что землю нужно распахать, чтобы все-таки завладеть сокровищем.
Вот как это изображено в сорок второй руне «Калевалы». Вначале Вяйнямейнен предлагает освободить Сампо молодому и физически сильному Лемминкяйнену.
И веселый Лемминкяйнен,
Молодец тот, Каукомиели,
Что всегда готов без просьбы,
Скор всегда без поощренья,
Устремился взять там Сампо,
Крышку пеструю в утесе.
И упер колено в землю, —
Но не сдвинулося Сампо,
Крышка пестрая нс сбилась.
Сампо корни запустило
В глубину на девять сажен.
На лугах Похъёлы Лемминкяйнен нашел огромного быка, на краю поля плуг и —
Корни выпахал у Сампо,
Корневища пестрой крышки,
И подвинулося Сампо,
Крышка пестрая качнулась.
С мотивами плодородия земли и изобилия моря ассоциируется образ Сампо и в заключительной сцене сорок третьей руны. Осколки Сампо, разбившегося в схватке с Лоухи, падают в море, Вяйнямейнен подбирает их на берегу и углубляет в землю для ее плодородия —
Чтоб росли и умножались,
Чтоб могли преобразиться
В рожь прекрасную для хлеба
И в ячмень для варки пива.
Подобно тому как небосвод соединяется с землей и морем, так же Сампо в качестве символа плодородия и изобилия связано с этими первостихиями, в чем угадываются, повторяем, древнейшие космологические пласты этой символики.
Наряду со всем этим Лённрот усматривал в образе Сампо отражение этапов человеческой цивилизации в ее исторической эволюции и постарался запечатлеть это в «Калевале». Еще в первом издании «Калевалы» (во второй руне) хозяйка Лоухи, обещая Вяйнямейнену дочку в жены, если он выкует Сампо, перечисляет материалы, из которых оно должно быть изготовлено: «Из одного лебяжьего перышка, из одной овечьей шерстинки, из одного ячменного зернышка, из осколков одного веретенца».
В этом перечне, конечно же, отражается прежде всего существенная черта фольклорной эстетики, особенно когда речь идет о заведомо трудных задачах: предельная контрастность, максимальная несоизмеримость видимости и сути, того, что дано первоначально, и того, что в конечном итоге должно получиться. В фольклоре ведь всегда так: в сказках бедная Золушка оказывается красавицей принцессой, Иванушка-дурачок на деле умнее всех. Так же и с изготовлением Сампо: почти из ничего получается чудо — недаром же особо подчеркивается, что выковать нужно именно из одного перышка, из одного ячменного зерна и не более того.
Но в приведенном перечне материалов изготовления Сампо можно усмотреть и нечто другое. На это обратил внимание, как уже говорилось, Якоб Гримм, и Лённрот придерживался того же мнения: в перечне материалов отразились стадии эволюции хозяйственных укладов древних людей: охота (символ лебяжье перышко), хлебопашество (ячменное зерно), скотоводе Ло (овечья шерстинка), ремесла (веретено и кузнечное дело).
Эта символика и ее смысл осознавались Лённротом, видимо, уже в процессе работы над первым изданием эпоса, а замечание Гримма лишь укрепило его во мнении, что такое толкование правомерно. Это поощрило его к тому, чтобы в расширенной редакции «Калевалы» предложить еще более развернутую символическую картину изготовления Сампо.
Любопытно в обоих изданиях изображение самого Илмаринена, берущегося за выполнение трудной задачи. В Похъёле не оказывается ни кузницы, ни наковальни, ни мехов, ни инструментов. Но Илмаринен не теряется и налаживает все сам, вспоминая, что и небосвод он выковал без наковальни и из ничего. Однако несколько дней работы не приносят успеха, пока вместо кузнечных мехов не задули мощные ветры со всех стран света. Новое в расширенной редакции состоит в том, что в горне вначале рождается не Сампо, а совсем другие, более обыденные предметы: лук, лодка, корова, плуг. Это опять-таки символика хозяйственных занятий, но обыденные предметы выходят с некими функциональными изъянами, ими можно воспользоваться не только во благо, но и во вред: из лука можно и охотиться, и убивать, на лодке можно отправиться на войну, корова может заблудиться в лесу и утратить молоко, плуг норовит запахать и соседское поле. Только в Сампо воплощается идеальное благо, идеальная мечта о счастье. Это не только древний миф, но и мечта о будущем; символ в «Калевале» обращен к потомкам.
Классические эпосы часто имеют трагический финал. Вспомним о гибели Патрокла и Гектора в «Илиаде» (ее главный герой Ахиллес гибнет от стрелы Париса не в рамках самой «Илиады», а в «Эфиопиде», одной из так называемых циклических послегомеровских поэм); гибнет Беовульф в одноименной поэме, гибнут боги и герои в «Старшей Эдде»; трагизмом пронизано «Слово о полку Игореве».
Лённрот в «Калевале» воздержался от трагического изображения гибели языческого мира. После рождения святого младенца Вяйнямейнен отплывает на «медном челне», но оставляет в наследие потомкам кантеле, руны, знание о прошлом, и это будет его духовным возвращением.
Наряду с сюжетом о гибели Айно есть в «Калевале» и еще один трагический сюжет — о рабе-бунтаре Куллерво. Цикл рун о Куллерво стоит несколько особняком не только в композиционном отношении, но и по силе трагизма.
ТРАГИЧЕСКОЕ БУНТАРСТВО КУЛЛЕРВО
Сюжетный цикл о Куллерво в расширенной редакции «Калевалы» включает шесть рун (31-36, всего 2196 стихов) и состоит из разных фольклорных источников.
В первом издании «Калевалы» этому герою была посвящена одна руна (19-я, 534 стиха), объединившая два фольклорных сюжета: сюжет о пастухе-сиротке, униженном несправедливостью хозяйки и мстящем ей; и сюжет о юноше, отправляющемся на войну.
В первом издании «Калевалы» Лённрот связал эти два сюжета между собой и с общей композицией книги следующим образом: поскольку в народных вариантах хозяйка пастуха обычно является женой кузнеца, то в «Калевале» она стала женой Илмаринена и, следовательно, дочерью Лоухи, родом из Похъёлы. Как и в народных вариантах, мальчик продан кузнецу за бесценок, хозяйка запекает пастуху в хлеб камень, он приходит в ярость и магическим заклятьем превращает стадо в волчью стаю, которая расправляется с хозяйкой. После осуществления своей мести Куллерво (уже в «Калевале») отправляется на войну, а овдовевший Илмаринен кует золотую деву, участвует в походе в Похъёлу — так продолжается объединенный сюжет.
Для понимания отличий первого и второго изданий эпоса важно учесть еще следующее: о сиротстве Куллерво, о межродовой вражде его предков, как и о социальных мотивах этой вражды, — обо всем этом в первом издании «Калевалы» еще не было речи. Завязка сюжета была чисто сказочной: рождается необычайной силы мальчик, еще в колыбели он разрывает свой повивальник, мать не знает, что с ним делать, и решает избавиться от него. Есть народные сказки о мальчике-силаче, сыне человека и медведицы, который из-за своей чрезмерной силы все портит; его хотят извести, дают ему трудные задачи, но он со всем на свой особый лад справляется и из всех опасностей выходит цел и невредим — дальше сказочный сюжет может развиваться в разных направлениях.
Уже в рамках народной традиции руна о пастухе-сиротке возникла в результате слияния подобных сказочных мотивов о мальчике-силаче, который все портит, с традиционными пастушескими песнями. Пастух в этих песнях чаще всего существо обездоленное и униженное, мальчик-сиротка в услужении других, более обеспеченных и немилосердных людей.
И в народных рунах, и в «Калевале» Куллерво в младенчестве продан в рабство. Слово «раб» в фольклоре исторически многозначно. Речь может идти о патриархальном рабстве еще на стадии разложения родового строя. В рунах Илмаринену в кузнице помогают рабы. Рабыней может называться работница-служанка. Раб — значит зависимый, подневольный человек, в том числе крепостной (там, где было крепостничество). В финском языке «крепостное право» переводится как «земельное рабство».
Например, в песне балладного типа «Хозяин и раб из Виро», включенной Лённротом в третью книгу «Кантелетар», имелся в виду скорее всего крепостной (или крепостная), поскольку в Эстонии было распространено крепостное право. Точно так же в Ингерманландии, где эта песня была известна и где вообще бытовал жанр антикрепостнической песни.
Лённрот имел представление о крепостничестве и достаточно определенно выразил к нему свое отношение. В 1844 г. Лённрот пробыл около полутора месяцев в Эстонии, в Тартуском уезде (в основном с целью изучения языка), и в письме к доктору Раббе от 18 октября того же года делился своими впечатлениями. Помимо носителей языка он встречался, по его словам, с местными священниками, но не с помещиками — «отчасти потому, что от них я ничему не мог научиться, отчасти по причине моего возмущения тем гнетом, которым они закабалили своих крестьян». Далее Лённрот писал, что местные священники показались ему образованными людьми, они следили за немецкими богословскими журналами и жили в достатке. И дальше самое любопытное для нас признание Лённрота: «Но что касается лично меня, то я бы скорее согласился быть пастором в Финляндии с годовым жалованием в 1000 рублей, чем получать здесь 10 000, ибо предпочел бы лучше умереть с голоду, чем равнодушно взирать на угнетенное положение местного крестьянства, задавленного помещиками. Хотя они называются здесь крестьянами, но положение их такое же, как у наших помещичьих торпарей, даже еще хуже, потому что торпарь у нас может все-таки надеяться, что однажды он станет владельцем своей усадьбы, тогда как у эстонского крестьянина такой надежды нет. И живут они еще хуже, чем самый бедный финский торпарь. На постоялом дворе в мою комнату зашел подвыпивший крестьянин и заговорил о том о сем. Я попросил его удалиться, объяснив, что не привык общаться с пьяными. Тогда он заплакал и просил не обижаться, потому что выпивка составляет для них единственную радость «с тех пор, как шведы превратили нас в рабов». Под «шведами» он подразумевал, конечно же, немецких рыцарей».
Это письмо дает некоторое представление о том, в каком внутреннем состоянии, с какими мыслями и чувствами Лённрот работал над циклом рун о Куллерво в расширенной редакции «Калевалы» по новым фольклорным материалам. Ассоциации с крепостничеством были неизбежны. Уже в первом издании «Калевалы» в руне о Куллерво были стихи с упоминанием, что, оставшись сиротой, он был «отправлен в Россию, продан в Карелию». Подобные географические упоминания в народных вариантах обычны, особенно когда поется о птенцах-братьях, разлетевшихся в разные стороны, — один оказывается в Суоми, другой в Карелии, третий в России. Появление в рунах этих названий именно в такой форме относится к сравнительно позднему времени, и это же касается ассоциации с крепостничеством.
Открытый Д. Э. Д. Европеусом ингерманландский сюжет о вражде двух братьев из-за имущественных распрей был использован Лённротом в расширенной редакции «Калевалы» как зачин всего цикла рун о Куллерво. Это придало циклу как бы новое социальное измерение, новую остроту.
В народных вариантах распри между братьями иногда начинаются с потравы соседских посевов, иногда из-за рыбных тоней. Лённрот в своем тексте объединил то и другое: Унтамо поставил сети в тони Калерво, который в отместку забрал себе улов; Калерво посеял овес на земле Унтамо, рядом с его жилищем, и после потравы распри еще пуще разгорелись. Отметим опять-таки пространственную условность фольклорной поэтики: хотя в первых строках говорится, что братья рассеяны по разных странам, но для последующей коллизии обязательно нужно, чтобы они жили рядом. Это пространственное рассеяние столь же условно, как и пространственное соседство — главное в сюжете именно возникновение вражды и ее гибельных последствий. А на пространственную несогласованность фольклорная эстетика не обращает внимания. Так это и у Лённрота в «Калевале». Вот зачин тридцать первой руны:
Воспитала мать цыпляток,
Лебедей большую стаю,
Привела цыплят к насести,
Лебедей пустила в реку.
Прилетел орел, спугнул их,
Прилетел, рассеял ястреб,
Разогнал крылатый деток:
В Карьялу унес цыпленка,
Взял другого он в Россию,
Дома третьего оставил.
Тот, кого он взял в Россию,
Вырос там и стал торговцем,
Тот, кого он взял к карелам,
Имя Калерво там принял,
А оставленный им дома,
Унтамойненом был назван.
Он принес отцу несчастье,
Сердцу матери печали.
Ставил сети Унтамойнен,
Где у Калерво затоны, — и т. д.
Следует сказать о том, что новые ингерманландские фольклорные материалы побудили Лённрота внести в расширенную редакцию «Калевалы» и некоторые другие коррективы социального характера. В Ингерманландии крестьяне страдали не только от крепостничества, но и от острого малоземелья. Нехватка земли — традиционный мотив ингерманландских песен. Видимо, под их влиянием Лённрот, как считают исследователи, внес и в цикл рун о Лемминкяйнене мотив поделенной без остатка земли. Прибыв на остров, где он намерен поселиться, Лемминкяйнен (в 29-й руне) спрашивает, есть ли там свободная земля или хотя бы участок леса под подсеку, но ему отвечают:
Остров весь уж поделили,
Все размерены поляны,
Лес по жребию раздали,
Все луга уж у хозяев.
В цикле рун о Куллерво в «Калевале» имущественные распри, в том числе из-за посевов, приводят к братоубийственной войне. Род Калерво уничтожен, в живых остается только мать Куллерво, родившая его уже в плену. Здесь Лённрот отклонился от народных вариантов, в которых речь шла только о сиротстве героя, не о пленении матери. Для целостного сквозного сюжета всего цикла Лённроту требовалось, чтобы мать Куллерво потом вновь объявилась как свидетельница последующих несчастий сына, которые она будет оплакивать. Куллерво пытаются утопить в море, сжечь в огне, повесить на дереве, но он неистребим и насмехается над своими преследователями. Тогда Унтамо хочет примирить Куллерво с участью раба. Он говорит:
Поведешь себя достойно,
Будешь жить, как подобает, —
Так останься в здешнем доме
И рабом моим работай.
Но здесь срабатывает сказочная эстетика «порчи» и разрушения, в данном случае уже не как реликт мифологического «лесного» происхождения и унаследованной медвежьей силы героя, а как протест раба. Малолетнему Куллерво велят нянчить ребенка — он губит его; ему поручают рубить подсеку — он валит магическим заклятьем весь лес вокруг; ему приказывают обнести поле изгородью — он ставит ее до небес, и посевы лишаются солнца.
Рассердился Унтамойнен:
«Никуда слуга не годен!
Что ни дам ему работать,
Всю работу он испортит.
Отвести ль его в Россию
Или в Карьялу продать мне
Илмаринену на кузню,
Чтоб там молотом махал он?»
Продал Калервы он сына,
Продал в Карьяле на кузню,
Илмариненом он куплен,
Славным мастером кузнечным.
С точки зрения фольклорной эстетики заплаченная за раба цена оскорбительна для Куллерво с его необычайной силой и вообще для человеческого достоинства. Можно даже предположить, в этом есть намек на продажу крепостных в более позднее время.
Цену дал кузнец какую?
Цену дал кузнец большую:
Два котла он отдал старых,
Ржавых три крюка железных,
Кос пяток он дал негодных,
Шесть мотыг плохих, ненужных
За негодного парнишку,
За раба весьма плохого.
Подобно тому как сюжет о вторичном сватовстве Илмаринена в Похъёле (первый раз оно не увенчалось успехом) и его женитьбе на дочери Лоухи дал Лённроту повод наполнить несколько рун обширным описанием свадьбы с полным циклом свадебных песен, так же сюжет о пастушестве Куллерво в доме Илмаринена позволил воспроизвести цикл заговоров-оберегов, которые традиционно исполнялись при весеннем выгоне стада. Заговоры эти, вложенные в уста хозяйки дома, весьма поэтичны. То, что их поэтичность может не соответствовать жесткости ее натуры, не является со стороны Лённрота особым эстетическим «прегрешением», ибо в фольклоре подобное встречается сплошь и рядом. Ведь и Куллерво, напустив на хозяйку волчью стаю, совершает свою жестокую месть формально только за то, что сломал о запеченный в хлеб камень свой нож. Конечно, в древние времена и металлический нож мог быть большой драгоценностью. Но в руне суть в том, что унаследованный от отца нож символизирует кровную связь с родом и обязывает к родовой мести. Это при том, что в уста Куллерво Лённрот вложил поэтическую пастушью песню, наполненную печалью и горечью.
В фольклоре — в карельских и особенно в ингерманландских песнях — само пастушеское занятие, как уже говорилось, обычно символизирует бедность и сиротство, низкое положение в сельской общине. В пастухах чаще всего были пришельцы откуда-то извне, бесприютные скитальцы, что называется, перекати-поле. Это отразилось не только в пастушьих песнях. Например, в средневековой балладе-легенде о грешнице Маталене (библейская Мария Магдалина) Христос является в образе пастуха, которого гордая Маталена сначала презирает за его низкое положение, а затем падает ему в ноги, омывая их покаянными слезами.
И в то же время пастушьи песни поэтичны, как поэтичен и символ пастушества — рожок. В «Калевале» это передается в заговоре хозяйки Илмаринена, когда она обращается к божеству Укко:
Ты подай рожок пастуший
С высоты небес высоких,
Тот рожок медовый с неба,
Тот рожок со сладким звуком;
Ты подуй в рожок сильнее,
Затруби в рожок звучащий
И пошли цветов нам горы
И укрась травой поляны,
Разукрась получше рощи,
Оживи лесные чащи,
Мед пошли во все болота,
Ты разлей в потоках сладость!
Кстати, о символах. Академик М. Хаавио считал, что если символом карельских рун является кантеле, то символом ингерманландских песен стал рожок — там было много пастушьих песен.
В трагической судьбе Куллерво в «Калевале» пастушескому рожку предстояло превратиться в боевой рог, подобный рогу Роланда, героя французского эпоса. В известной картине финского художника Аксели Галлен-Каллела «Куллерво отправляется на войну» герой изображен на коне с боевым рогом. В «Калевале», в последней руне цикла, Куллерво после всех несчастий отправляется мстить Унтамо, отвергая уговоры родных, предостерегающих его от верной гибели. Герой с вызовом отвечает, что вопреки всем несчастьям его смерть не будет позорной и бесславной.
Не паду я на болоте;
На песках я не погибну,
Там, где ворона жилище,
Где вороны ищут пищу.
Я паду на поле битвы,
Я погибну в битве храбрых.
Хорошо погибнуть в битве,
Умереть под звон оружья!
В этих словах выражена и жажда кровной мести, и стремление к самоутверждению, и желание собственной смерти. Кровная месть осуществляется, но гибнет Куллерво в «Калевале» от собственного меча, кончая с собой. Происходит это под чрезмерным бременем событий, жертвой которых оказывается трагический герой в общем сюжете цикла. После бегства из дома Илмаринена Куллерво узнает, что родители его все-таки живы; отец пытается привлечь его к хозяйственным работам, однако и в этом случае мешает заложенная в герое несоразмерная сила, приводящая к разрушению.
Кульминацией трагической судьбы Куллерво в «Калевале» становится эпизод любви-инцеста. Отец посылает героя платить дань, в пути он встречает девушку, и только после свершившейся близости открывается, что она сестра ему, некогда потерявшаяся в лесу. Сам по себе этот фольклорно-мифологический сюжет о кровосмесительной любви по неведению обеих сторон (весьма распространенный в мировом фольклоре) восходит, по-видимому, к поворотному моменту в эволюции брачных отношений, когда эндогамия уступила место экзогамии и когда изменились нормы морали. Как уже говорилось в связи с Кастреном, в поездках эпических героев в Похъёлу за женами отразились экзогамные отношения, с утверждением которых прежние внутриродовые брачные связи стали запретными. В «Калевале» эпизод инцеста становится последним роковым ударом для Куллерво, после чего ему остается только искать гибели либо в бою, либо от собственного меча.
Сознавая, что цикл рун о Куллерво стоит все же особняком в композиции «Калевалы», и желая как-то увязать его судьбу с общим ходом событий, Лённрот закончил цикл сценой, в которой Вяйнямейнен произносит над телом Куллерво речь-поучение и пытается извлечь уроки из происшедшего. Поскольку дидактика не выходит в данном случае за рамки пожелания лучше воспитывать молодое поколение, она не кажется вполне уместной, на что обратил внимание еще Фр. Сигнеус в своем исследовании «Элемент трагического в «Калевале» (1852—1853). Между прочим, это исследование весьма примечательно с точки зрения того, насколько важным и злободневным явился цикл рун о Куллерво для понимания трагического в тогдашней финской литературе, да и в самой народной судьбе.
Сигнеус в упомянутой работе назвал цикл рун о Куллерво «революционным явлением», поскольку тем самым опровергалось одностороннее представление о народной поэзии как о чем-то безусловно гармоническом и даже идиллическом, лишенном всяких отражений социальных противоречий и социального протеста. Соответственно и финский народ принято было считать смиренным, богобоязненным, идеально законопослушным народом, не способным к собственному волеизъявлению и якобы не созревшим еще для этого. Финнов причисляли к «неполитическим нациям», которым не суждено играть самостоятельной роли в государственной жизни.
На фоне таких представлений полный цикл рун о трагической судьбе раба-бунтаря в расширенной редакции «Калевалы» явился настоящим открытием для тогдашней литературной общественности. Некоторые были до крайности удивлены, не в силах поверить самой возможности такого фольклорного сюжета у финнов. Например, С. Топелиус-младший писал в недоумении, что Куллерво «совершенно одинокая фигура в финской поэзии, словно он не у себя дома».
Сигнеус же доказывал, что эпическая поэзия никогда не была идиллически безотносительной и объективистски безоценочной по отношению к внешнему миру, что уже в древней заклинательной поэзии была «лирическая субъективность», то есть стремление певца-заклинателя с помощью магии изменить ход событий в благоприятную сторону.
Отклонил Сигнеус и узкоморализаторское толкование образа Куллерво, как это выглядело в концовке цикла в «Калевале». В осмыслении трагической судьбы героя Сигнеус выдвинул на первый план конфликт личности и обстоятельств, то есть конфликт общественный, хотя и выраженный специфическими средствами фольклора применительно к ранней эпохе. Сигнеус писал о Куллерво и о сути конфликта: «Природа создала его героем, а судьба низвела до положения раба. По своему внутреннему призванию он был рожден для деяний, которые бы дали ему возможность свободно проявить дарованную ему природой титаническую мощь, но родился он в угнетающей атмосфере рабства, а унизительный рабский труд приводит героическую волю к непростительным заблуждениям».
В восприятии Сигнеуса трагическая судьба Куллерво рождала аналогии с современностью, с угнетающей политической атмосферой середины XIX в. Подавление ряда европейских революций 1848 г., репрессивные меры царизма в России и Финляндии, ужесточение цензуры, стремление властей избавиться от свободомыслящих людей — все это наводило Сигнеуса на грустные мысли. Восхищаясь вольнолюбивыми стихами немецкого поэта Георга Сервера, Сигнеус считал, что подобные стихи финский поэт мог писать «лишь в Нерчинских рудниках» (в Финляндии было известно о судьбе декабристов и петрашевцев в России).
Через «Калевалу» трагический образ Куллерво стал одним из самых притягательных для финской литературы и искусства. Первым произведением Алексиса Киви стала трагедия «Куллерво» (1864). По поводу картины А. Галлена-Каллела «Проклятие Куллерво» поэт Э. Лейно писал, что, увидев ее в ранней юности и побеседовав с художником, он впервые понял, чем надлежит быть подлинному искусству, чем «оно всегда было и будет: вечно живым бунтарством против существующего, которое всегда консервативно по отношению к зреющей в его недрах мечте о более совершенном и счастливом мире».
Образ Куллерво из «Калевалы» больше импонировал писателям и художникам романтического склада. Сигнеус, современник Лённрота, принадлежал к эпохе романтизма. Киви именно трагедией «Куллерво» начал как романтик и лишь затем эволюционировал к реализму. Представителями неоромантизма рубежа веков были Лейно, Галлен-Каллела и молодой Сибелиус, для музыки которого «Калевала» с ее трагическими мотивами значила так много. Цикл рун о Куллерво и само это имя глубоко вошли в историю финской литературы, составляя ее трагедийный пласт.
ЗОВ К СОСТРАДАНИЮ И МИЛОСЕРДИЮ
Одну из сложнейших проблем при осмыслении «Калевалы» и собственно фольклора составляет соотношение в них языческих и христианских мотивов, языческого и христианского мировоззрения, языческой и христианской этики.
В народе сохранились древнейшие языческие мифы, предания, руны, но ведь живая фольклорная традиция не была похожа ни на музейный заказник, ни на некий неприкосновенный заповедник древнего язычества. Фольклорная традиция была непрерывным творчеством народа, в течение веков в народную среду входило христианство, проникая в самые глухие лесные деревни.
В 1836 г., через два года после поездки Лённрота, в беломорско-карельской деревне Латваярви побывал его помощник Ю. Ф. Каян и записал от Архипа Перттунена следующую руну, примечательную сочетанием языческих элементов с христианскими.
Сампса Пеллервойнен (языческое божество плодородия; в «Калевале» сеятель деревьев и злаков) ищет подходящее дерево для постройки парусной лодки для Бога (далее именуется также Создателем, Божьим Сыном, то есть подразумевается Спаситель в облике человеческом, Иисус-Богочеловек). Сампса Пеллервойнен подходит к дубу и спрашивает: «Сгодишься ли ты для лодки Создателю?», — на что дерево отвечает: «Не сгожусь — трижды в это лето изъели мои корни черви, трижды обошел вокруг меня дьявол, и вороны каркали с моей вершины». Такой же ответ слышит Сампса и от второго дуба. Третий дуб отвечает утвердительно и радостно: «Сгожусь я для лодки Спасителю — трижды в это лето капал мед с моих ветвей, солнце кружилось вокруг меня, и трижды куковала кукушка с моей вершины». Когда лодка была готова, ее спустили на воду, вместе с Сампсой уселись святая Анна и святой Петр, а управлять святые предложили Создателю. На море разыгралась буря, Создателя попросили укутаться потеплее, а когда из воды показалось чудовище Ику-Турсо, Создатель поднял его «за уши» в лодку и спросил: «Зачем же ты вышел из глубин, зачем ты явился пред людьми и Божьим Сыном?» Чудовище, как сказано в руне, «не очень испугалось», и вопрос пришлось повторить, на что последовало признание: «Хотелось опрокинуть лодку».
Создатель еще раз поднял чудовище за уши и сбросил в море со строгим наказом: «Больше никогда не выходи из моря и не являйся пред людьми и Божьим Сыном, пока светит луна и сияет солнце». После этого наказа чудовище уже больше никогда не показывалось. Следуют заключительные строки руны: «Отсюда начинается путь, открывается новая дорога».
В этой руне не просто соседствуют в одной лодке языческие и библейские персонажи. И важны не только сюжетные сходства, то, что встреча Создателя с Ику-Турсо в руне напоминает встречу библейского Бога с чудовищем Левиафаном во время бури на Галилейском море. Конечно, любопытно в руне это сочетание суровости и всепрощения в образе Христа: Ику-Турсо извлечен из воды «за уши», но отпущен с миром. О жестокой борьбе с чудовищем нет речи. Ветхозаветный Бог в Библии куда более суров («Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». — Псалмы, 73:14). Но недаром в руне говорится о Божьем Сыне — подразумевается новозаветное, евангельское милосердие, и именно это составляет то главное, что отличает христианское сознание от языческого. Первобытная родо-племенная мораль уступила место общечеловеческой христианской морали с заповедями «не убий» и «не кради». Не только кровная месть становится грехом, но и сюжеты о борьбе с мифологическими чудовищами утрачивают былые черты.
Тем не менее Лённрот использовал в сорок второй руне «Калевалы» упомянутый эпизод встречи с Ику-Турсо, заменив, однако, христианских персонажей языческими. В лодке на море плывут теперь уже не христианские святые с Христом, а Вяйнямейнен, Илмаринен и Лемминкяйнен. Они возвращаются с похищенным Сампо из Похъёлы, колдунья Лоухи насылает на них бурю с Ику-Турсо. Дальше сюжет развивается примерно так же, как и в вышеприведенной руне Архипа Перттунена:
Старый, верный Вяйнямейнен
Турсо за уши хватает,
Поднял за уши повыше
И спросил его сурово,
Говорит слова такие:
«Ику-Турсо, ты, сын Старца!
Ты зачем из моря вышел,
Ты зачем из вод поднялся
Пред очами человека,
Пред сынами Калевалы?»
После повторного вопроса Ику-Турсо отвечает:
«Я затем из моря вышел,
Я затем из вод поднялся,
Что намерение имел я
Калевы весь род прикончить,
Отнести на север Сампо.
Коль меня отпустишь в воду,
Жизнь мне жалкую оставишь,
Не явлюсь уже в другой раз
Пред очами человека».
Тотчас старый Вяйнямейнен
Отпустил его обратно…
В чисто фабульно-сюжетном отношении Лённрот не хотел смешивать языческих персонажей с христианскими. Во-первых, это чрезвычайно усложнило бы общую композицию «Калевалы». И, во-вторых, это противоречило бы его главной цели: на основе архаических рун воссоздать картину языческого мира.
Поэтому в фабульно-сюжетном отношении Лённрот устранял из рун христианские влияния. Но от влияния христианской этики он не мог, да и не хотел столь решительно уклоняться. Еще Юлиус Крон писал в 1885 г.: «Вся система восприятия и изображения в «Калевале» испытала, по всей вероятности, значительное влияние христианства, впитала в себя христианскую кротость и мягкосердечие. К примеру, многие молитвенные обращения в заклинаниях едва ли могли возникнуть вне контакта с духом христианства».
Как это совершенно очевидно, христианские влияния проникли в саму фольклорную традицию, их не следует приписывать только Лённроту как составителю «Калевалы». Поэтому трудно согласиться с утверждениями обратного порядка, как, например, в предисловии О. В. Куусинена 1949 г.: «К сожалению, в композицию «Калевалы» проникли чуждые ее общему характеру элементы более позднего происхождения — в частности, несколько десятков стихов и обращений христианско-религиозного порядка. Возможно, Лённрот хотел смягчить сопротивление финляндского духовенства изданию и распространению эпоса». В подобных суждениях сказывался весьма распространенный в ту пору односторонний взгляд на саму роль христианства в истории народов. По словам автора предисловия, христианство «по своей исторической роли является идеологией, служившей господствующим классам. Церковь веками «учила» народ пренебрегать земной жизнью, бояться бога и черта, безропотно повиноваться власть имущим. Поэзия «Калевалы» свободна от этого выращенного и навязанного классовым обществом духа раболепия».
Касательно раболепия это, пожалуй, верно, но с характером влияния христианства на фольклор, включая классическое эпическое наследие, далеко не все обстояло так просто. Да и сам Лённрот отнюдь не был приверженцем религиозного фанатизма, религиозной отрешенности от земной жизни. Совсем напротив: с фанатиками и жизнеотрицателями он сам полемизировал.
Без особого риска ошибиться и впасть в односторонность можно утверждать: осмысляя архаическую эпику прежде всего как языческое наследие, Лённрот вместе с тем хорошо понимал прогрессивную эпохальную роль христианства, особенно в этическом плане, с точки зрения развития общечеловеческих нравственных идеалов.
В заключительной руне «Калевалы», повествующей о чудесном рождении младенца (Христа) и об уходе Вяйнямейнена, Лённрот без особых отклонений следовал фольклорной традиции, собственно народным вариантам рун. Еще в 1833 г. он записал от Онтрея Малинена довольно лаконичную руну с соответствующим сюжетом, а в следующем году ему удалось записать от Архипа Перттунена весьма обширную по объему (425 стихов) и поэтически впечатляющую «Песнь о Создателе», из которой он многое позаимствовал для заключительной руны «Калевалы».
По своему происхождению эти руны, разумеется, связаны с Библией, с распространением христианства в народе. В свое время Каарле Крон с его концепцией западнофинского происхождения эпического наследия приурочивал их к католическому (дореформационному) периоду, тогда как современные исследователи (М. Кууси, немецкий переводчик «Калевалы» и ее комментатор X. Фромм) связывают эти сюжеты с православными влияниями с востока.
Библейские легенды были вскоре переработаны местной фольклорной традицией. Лённрот в «Калевале», объединив народные варианты, дополнил их некоторыми деталями на фольклорной же основе, в духе фольклорной эстетики. В результате общность с библейским текстом весьма относительная, как бы пунктирная, угадываемая лишь в главных моментах, хотя и главные моменты видоизменены.
Как уже подчеркивалось, фольклорная эстетика требовала резко контрастного изображения в максимально конкретных проявлениях. В данном случае это бросается в глаза уже в передаче непорочного зачатия чудесного младенца. В Библии Иосифу явился ангел, предупредительно сообщивший, что Мария родит от Святого Духа. Для фольклорной традиции явление ангела было бы абстракцией, нужно было более конкретное воплощение. (Заметим, что слово «ангел» в рунах вообще не встречается.) Согласно фольклорной эстетике, непорочность крестьянской девушки Марьятты имеет сугубо бытовое и телесное проявление. В сюжете всячески подчеркивается, что, оберегая свою девственность, Марьятта в крестьянском хозяйстве наотрез отказывалась соприкасаться со стельными животными, не ела яиц и баранины, не доила коров, не садилась в сани с запряженной лошадью.
Зачатье произошло опять-таки не от духовного соприкасательства, а от съеденной брусничной ягодки. Причем фольклорная эстетика требовала подчеркнуто контрастной внезапности. Марьятта в лесу только что спрашивала кукушку:
«Ты скажи: я долго ль буду
Незамужнею пастушкой
По лесным бродить полянам,
По просторам этой рощи!
Буду лето, буду два ли,
Пять лет буду или шесть лет,
Или десять лет, быть может,
Или ждать совсем недолго?»
Марьятта в полном неведении, но яркая брусника на кочке сама предлагает себя сорвать и съесть — ведь собирать ягоды всегда было женским делом. Ягодка прыгнула с кочки сначала на девичий башмак, затем на колени, на грудь, в губы и скользнула в рот — и от ягодки Марьятта затяжелела.
В варианте, записанном Лённротом от Архипа Перттунена, Марьятта в поисках теплой бани для родов сразу же посылает помощницу к «злому Руотусу» (в Библии царь Ирод, преследующий Святое семейство). Причем злой Руотус живет в деревне под названием Сарая — из контекста можно понять, что имеется в виду не только соседняя деревня в бытовом смысле, но и враждебная страна эпических антагонистов, подобная Похъёле.
Лённрот в «Калевале» предложил более обытовленную и подробную разработку сюжета. Затяжелевшую Марьятту сначала наблюдают домашние и соседи, замечают, как она ходит почему-то без пояса и в просторном платье. Наконец дочь вынуждена открыться матери и просит приготовить для родов теплую баню. Следует взрыв родительского гнева — и по контрасту смиренное объяснение дочери.
Мать промолвила ей слово,
Так ответила старуха:
«Прочь уйди, блудница Хийси!
Отвечай мне, с кем лежала?
Холостой ли он мужчина,
Молодец ли он женатый?»
Марьятта, красотка-дочка,
Ей в ответ сказала слово:
«Не была я с неженатым,
Ни с женатым я не зналась.
А пошла я на пригорок
И хочу сорвать бруснику», — и т. д.
Это же повторяется в беседе с отцом, которому Марьятта, впрочем, пытается приоткрыть уже другую — высшую — тайну. В Библии ангел предвещает Марии рождение Спасителя, который искупит людские грехи. Лённрот вложил в уста Марьятты слова:
«Я нисколько не блудница,
Не презренная нисколько.
Но великого героя,
Благородного рожу я,
Даже сильного сразит он
Вяйнямейнена седого».
Вставка Лённрота была как бы соединительным звеном между фольклорной традицией и библейской версией. Во вставке выразилась готовность сделать шаг навстречу Библии и дать знак о скором пришествии Спасителя.
Далее в пятидесятой руне следуют уже эпизоды с Руотусом и его хозяйкой, к которым Марьятта вынуждена обратиться после родительского отказа. Но «для чужих» у Руотуса и подавно нет теплой бани, он посылает роженицу посреди зимы в отдаленную конюшню «на горе сосновой». Надо сказать, что уже в народных вариантах дальнейшие сцены насыщены пронзительным состраданием, настоящим криком о милосердии, и Лённрот стремился не только сохранить, но и усилить этот нравственный пафос, голос человечности. И в то же время бытовые детали присутствуют и здесь — даже в такой степени, что Марьятта отправляется в холодную конюшню с банным веником.
Вот берет руками платье,
Подбирает край подола
И несет в руках метелку,
Веником живот прикрывши.
Так идет она поспешно
При жестоких муках чрева…
И когда дошла до места,
Говорит слова такие:
«Надыши, конек мой милый,
Надыши, моя лошадка,
Сделай теплый пар, как в бане,
Теплоты побольше дай мне,
Чтоб покой нашла бедняжка,
Чтоб была несчастной помощь».
В Библии царь Ирод узнает о рождении Христа от мудрецов-книжников по рождественской звезде на небе; он повелевает истребить в Вифлееме всех подозреваемых младенцев, и начинается бегство Святого семейства в Египет. В рунах родившийся младенец воспитывается у матери, но ускользаете ее колен, теряется в лесу, и Марьятта пускается в поиски. Она спрашивает у звезды (в варианте Архипа Перттунена: у дороги), затем у луны и солнца, где ее дитя. Звезды и месяц не знают ответа, к тому же они в обиде на то, что созданы светить на холодном небе. Только солнце с радостью сообщает, что затерявшийся младенец забрел на болото, но цел и невредим.
Отыскавшегося младенца предстоит окрестить — это символ новой веры. Крестить собирается Вироканнас (в некоторых вариантах просто: священник), но перед этим младенца показывают Вяйнямейнену, чтобы он оценил и одобрил его. Суд старца суров: младенца следует отнести обратно на болото. Но тут чудесный младенец заговорил сам, обнаруживая мудрость и упрекая старца в слепоте. Раздосадованный Вяйнямейнен покидает родные пределы, он скрывается из виду на самом горизонте, где земля соединяется с небосводом.
Уже предшествующая, сорок девятая, руна завершалась на мажорной ноте: долгая борьба с Лоухи, насылавшей на калевальцев разные беды, кончилась их победой: небесные светила вновь возвращены на подобающее место и шлют свет и тепло людям, жизнь будет продолжаться.
Еще до выхода расширенной редакции «Калевалы» в свет Лённрот в конце 1848 — начале 1849 гг. изложил в двух номерах газеты «Литературблад» краткое содержание каждой из пятидесяти рун, и о заключительной руне говорилось следующее: «С поражением Похъёлы эпоха Вяйнямейнена уже исчерпала себя. С наступлением христианства новые идеи проникают в страну Калевалы и находят поддержку у ее народа. Подобно другим своим сподвижникам, совершавшим добрые дела, Вяйнямейнен не может представить себе, чтобы добро исходило не от него. Отсюда его досада на успехи христианства и его решение покинуть неблагодарный народ».
Однако кончается последняя руна «Калевалы» словами Вяйнямейнена о том, что потомки еще вспомнят о нем и что ему найдется место в будущем.
Вот исчезнет это время,
Дни пройдут и дни настанут,
Я опять здесь нужен буду,
Ждать, искать меня здесь будут,
Чтоб я вновь устроил Сампо,
Сделал короб многострунный,
Вновь пустил на небо месяц,
Солнцу снова дал свободу:
Ведь без месяца и солнца
Радость в мире невозможна.
В наследство потомкам Вяйнямейнен оставляет свои песни и кантеле.
РОЛЬ ПЕВЦА-ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ В «КАЛЕВАЛЕ»
Естественно, что в подобном общем взгляде на собранный фольклорный материал, в его композиционной организации и художественном оформлении важная роль принадлежит певцу-повествователю, функции которого взял на себя Лённрот.
Недостаточно было только вообразить себя одним из рунопевцев и продолжателем рунопевческой традиции — нужно было обладать современными знаниями о фольклоре, о породившей его эпохе, об особенностях древнего сознания, о мифологической космогонии и множестве других вещей.
Здесь мы вновь должны повторить основополагающий тезис: Лённрот опирался на фольклор, но он не копировал его в «Калевале», а осмыслял и переоформлял в единую целостность. Это касается и образа певца-повествователя.
Как уже говорилось в своем месте, образ певца запечатлелся и в самом фольклоре, в так называемых «песнях о песнях», в которых певец сообщает, откуда он усвоил руны.
На основе этих песен Лённрот сложил вступление к «Калевале», но оно получило уже более целенаправленный характер и готовит читателя к восприятию не отдельных рун, а обширного повествования, с упоминанием всех основных героев и даже некоторых сюжетных мотивов (Сампо, козни Лоухи и т. д.). Причем весьма показательным является то, что эпические герои и события как бы приближены к повествователю, а через него и к читателю. Это уже не столько фольклорный, сколько литературный прием. Эпические герои как бы заранее знакомы повествователю — сокращается та «абсолютная эпическая дистанция», которая в архаическом фольклоре отделяет певца от сакральной мифологической древности. Во вступлении к «Калевале» повествователь обращается к читателям со своеобразным песенным посланием от древних героев:
Пусть друзья услышат пенье,
Пусть приветливо внимают
Меж растущей молодежью,
В подрастающем народе.
Я собрал все эти речи,
Эти песни, что держали
И на чреслах Вяйнямейнен,
И в горниле Илмаринен,
На секире Каукамойнен,
И на стрелах Еукахайнен, —
В дальних северных полянах,
На просторах Калевалы.
При сочинении этого пролога-экспозиции Лённрот опирался не только на карело-финские народные «песни о песнях», но и на мировую литературно-эпическую традицию, сложившуюся еще начиная с античности. Для литературной эпической традиции чрезвычайно характерно то, что изображаемые в эпопеях события — это не только существующая сама по себе мифологическая древность, но и «мой мир» повествователя, созданная им, повествователем, художественная целостность. Отсюда обращение древних поэтов к музам, чтобы музы благословили их на трудное дело, за которое они взялись.
В «Илиаде» еще нет повествователя в первом лице — песнь исходит от богини-музы. Вот начало поэмы в переводе Н. И. Гнедича:
Гнев, богиня, воспой
Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который археянам
тысячи бедствий соделал…
В «Метаморфозах» Овидия с первых же стихов появляется певец-повествователь в первом лице; впрочем, благоволением богов спешит заручиться и он:
Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы
Новые. Боги, — ведь вы превращения эти вершили, —
Дайте же замыслу ход и мою от начала вселенной
До наступивших времен непрерывную песнь доведите.
(Перевод С. Шервинского)
Это же присуще «Энеиде» Вергилия. Начальные строки:
Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои —
Роком ведомый беглец — к берегам проплыл Лавинийским…
(Перевод С. Ошерова)
Лённрот-повествователь не придерживается в «Калевале» строго первого лица, но все же оно нет-нет и появляется в некоторых эпизодах, особенно там, где возникает надобность непосредственно «управлять» повествованием, предупредительно готовить читателя к переходу к новым событиям и циклам. Например, в цикле о Лемминкяйнене двадцать седьмая руна начинается следующим образом, причем герои приближены к повествователю даже притяжательными местоимениями (в оригинале — притяжательными суффиксами).
Миновал теперь мой Кауко,
Ахти, мой Островитянин,
Пасть смертей свирепых многих,
Глотку гибельного Калмы,
Прибыл в Похъёлы жилище,
В дом на тайную пирушку.
Должен я теперь поведать,
Продолжать рассказ я должен… — и т. д.
А когда цикл о Лемминкяйнене кончается, заключительные стихи тридцатой руны звучат так:
Я теперь бросаю Кауко,
Долго петь о нем не буду;
В путь отправил я и Тиэру —
Пусть на родину он едет,
Сам же пенье поверну я,
Поведу другой тропою.
Это уже не что иное, как настоящее управление повествованием. Дальше следует большой цикл рун о Куллерво, с Лемминкяйненом никак не связанный, и вставка предупреждает об этом. Но вместе с тем эти личные и притяжательные местоимения первого лица делают отношения между повествователем и героями как бы интимными, а главное — изображаемый эпический мир становится и личностным художественным миром повествователя. И если в композиции даже и нет абсолютного сюжетного единства и спайки всех до единого эпизодов, то все же есть охват событий единым взглядом повествователя, они вошли в его личностное художественное сознание, в художественное сознание Лённрота.
Многое в композиции «Калевалы» требовало искусной «режиссуры» — даже в театральном смысле этого слова, поскольку описываемые народные празднества включали в себя элементы театральности. Лённрот хорошо сознавал это, о чем свидетельствует, в частности, его письмо к Ю. Л. Рунебергу от 10 октября 1834 г. В письме речь идет о народной свадьбе и так называемом медвежьем празднике, отмечавшемся, по словам Лённрота (и по сведениям информанта, деревенской женщины), как в связи с реальной охотой, так и без охоты, ради красочного развлекательного спектакля, длившегося иногда два дня. Лённрот специально изучал в поездках свадебный ритуал и ритуал медвежьего праздника. Тот и другой включали обширный цикл песен, было определенное число участников, каждому отводилась своя роль. Лённрот понимал, что первоначально ритуал медвежьего праздника исполнялся только при реальной охоте, — всего лишь развлекательным спектаклем он стал позднее (наряду с исполнением и при реальной охоте).
В упомянутом письме Лённрот сравнивал театральность народных ритуалов с древнегреческой драмой и театром. Относительно свадебного ритуала он писал, что вместе с основными взрослыми участниками на сцену иногда выпускался ребенок, у которого была своя роль и который мог произнести нечто такое, что производило особый эффект. Устами младенца могла быть высказана некая неподкупная правда и непосредственная оценка, некий беспристрастный сторонний взгляд — Лённрот сравнивал это с ролью хора в греческой драме. Есть основания полагать, что и в цикле рун о трагической судьбе Куллерво Лённрот до некоторой степени ориентировался на античную трагедию с ее неумолимой судьбой-мойрой, которая сильнее человеческой воли и желаний и которой подвластны даже боги на Олимпе. Лённрот не случайно считал Куллерво самым трагическим персонажем в «Калевале».
Приемы обрядовой театральности Лённрот в полной мере использовал в «Калевале». При описании свадебного ритуала-спектакля он комбинировал величальные и корильные песни, песни-жалобы и песни-поучения, стремясь к тому, чтобы получился многоголосный диалог, пестрая мозаика праздника и реальной жизни. Подчас «сторонний взгляд» высказывается не ребенком, а старухой-нищенкой, которая своей горестной историей сдерживает мажорную тональность и напоминает о суровости жизни.
В «Калевале» чередуются возвышенно-сакральное и будничное, трагическое и смешное, горе и радость. В «Калевале» много плачут, но многое вызывает и улыбку. По-разному предстают и магические заклинания героев; чаще всего они драматичны, но иногда окрашены юмором и воспринимаются как игра и шутка. Тем не менее широко используется гиперболизация образов, подчеркивание космической грандиозности происходящего. Даже выкованный Илмариненом орел обретает в полете космические масштабы, он обрамлен первостихиями и соизмерим с ними.
Волн одним крылом коснулся,
А другим достал до неба;
Загребает дно когтями,
Клювом скалы задевает.
И столь же грандиозными космическими масштабами наделяется маленькая пчела, летящая за тридевять морей в поисках целебного меда для матери Лемминкяйнена, воскрешающей своего мертвого сына.
В связи с многокрасочностью и монументальностью «Калевалы» и ее выдающимися художественными достоинствами возник вопрос о соотношении ее эстетики с индивидуальным эстетическим миром самого Лённрота. Иными словами, вопрос о том, насколько Лённрот как художественная натура соответствовал масштабу художественного памятника, художественного гения самого народа.
Лённрот пробовал писать собственные стихи, переводил отрывки из гомеровских поэм и народные песни из сборника Гердера. Сравнительно скромный поэтический уровень этих опытов можно во многом объяснить тогдашним уровнем литературного финского языка, учитывая, что в ту пору выдающихся финноязычных поэтов вообще еще не было. Они появились позднее, а то, что писали на финском языке предшественники и современники Лённрота, имеет ныне преимущественно лишь историческое значение для исследователей.
Но мог ли создать «Калевалу» художественно малоталантливый человек, с узким и ограниченным поэтическим миром в своей собственной душе?
На этот вопрос убедительнее всего ответил крупнейший финский поэт Эйно Лейно. В своем великолепном очерке о Лённроте (1909) он без обиняков писал: «Нет великого труда без стоящей за ним великой личности». Личность Лённрота была, по словам Лейно, столь всеобъемлющей, что она вместила в себя всецело мир народной поэзии, запечатленный в «Калевале». Лённрот был для Лейно не просто собирателем и механическим составителем, а художником-творцом, чья эстетическая культура и чей эстетический диапазон были на уровне художественного гения самого народа. Лённроту была доступна и задушевность народной лирики, и сумрачный дух заклинаний, и величие эпических рун, и дидактическая мудрость пословиц. Лённрот должен был обладать столь же живой фантазией, как и народные певцы. Более того, силой своей фантазии он должен был охватить весь поэтический мир народа в совокупности и создать из отдельных рун новую художественную целостность. «Если бы какое-нибудь из этих качеств отсутствовало у Лённрота, — писал Лейно, — оно отсутствовало бы сегодня и в «Калевале». Ведь в конечном итоге ни один художник не может вложить в свое творение больше того, что есть в нем самом. Будь собственная фантазия Лённрота более ограниченной, а его вкус менее развитым, он был бы просто шокирован и подавлен эстетическими мирами «Калевалы», в особенности же ее объемлющей землю и небо первозданной символикой <…> И равным же образом, будь личность Лённрота менее человечной, мы и в «Калевале» не чувствовали теплого дыхания человечности». Это сказано не только блестяще по форме, но и глубоко по мысли — на то Лейно был великий поэт, понимавший секреты искусства.
Даже при том, что в расширенной редакции «Калевалы» можно обнаружить некоторые длинноты, она уникальна как поэтический памятник, в том числе по полноте охвата фольклорного материала. В «Калевале» нашли так или иначе отражение практически все эпические сюжеты карело-финского фольклора, а сверх того она вместила в себя и многое другое.
Можно согласиться с Августом Аннистом, эстонским переводчиком «Калевалы» и автором исследования о ней, когда он утверждает, что по ряду своих основных качеств, равно как и по обстоятельствам своего возникновения, «Калевала» не имеет аналогов среди национальных эпосов в мировой литературе. Книжную форму и статус целостного национального эпоса «Калевала» обрела весьма поздно — и вместе с тем она подлинно народна; по своим мифологическим истокам она архаична — но она современна по выраженным в ней мыслям и чувствам.
Расширенная редакция «Калевалы» довольно быстро получила международную известность, чему способствовал ее немецкий перевод, выполненный петербургским академиком А. Шифнером. Он приступил к переводу в спешном порядке еще до выхода книги, практически с типографских листов, которые высылались ему по мере их поступления из Хельсинки. И в Хельсинки же немецкий перевод был издан в 1852 г. Именно этот перевод вскоре попал в руки американскому поэту Генри Лонгфелло и натолкнул его на создание в соответствующем эпическом стиле «Песни о Гайавате» на материале преданий североамериканских индейцев.
«Калевала» постепенно становилась не только краеугольным камнем литературного развития Финляндии, но и фактом мировой литературы.
Тем самым заключительные слова певца-повествователя в эпилоге «Калевалы» получали символический смысл.
Как бы ни было, а все же
Проложил певцам лыжню я,
Я в лесу раздвинул ветки,
Прорубил тропинку в чаще,
Выход к будущему дал я, —
И тропиночка открылась
Для певцов, кто петь способен,
Тех, кто песнями богаче
Меж растущей молодежью,
В восходящем поколенье.
Погружаясь в мифологическую древность, Лённрот думал о своем времени и будущих поколениях.
ИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К «КАЛЕВАЛЕ» ХУДОЖНИКОВ РАЗНЫХ СТРАН
Как поэтический памятник мирового значения «Калевала» широко известна в переводах на языки народов разных стран и континентов. Существует несколько десятков ее переводов, стихотворных и прозаических, полных и сокращенных, включая переложения для детей. Всего в мире насчитывается до двухсот пятидесяти изданий «Калевалы», и многие из них иллюстрированы художниками соответствующих стран. Чтобы дать представление о том, насколько по-разному воспринимаются образы «Калевалы» ее иллюстраторами в зависимости от их творческой индивидуальности и национального склада, ниже предлагаются по две иллюстрации шести художников: Аксели Галлен-Каллела (Финляндия), Марии Грации Фарины (Италия), Луонга Хуана Доана (Вьетнам), Робино Нгуа (Западная Африка, издание на языке суахили), П. Н. Филонова и его школы (Ленинград) и Мюда Мечева (Республика Карелия).
ПРОФЕССОРОМ В ХЕЛЬСИНКИ
Мысль об учреждении в единственном университете Финляндии профессорской кафедры финского языка возникла еще в 1820-е гг., но тогда это не могло быть осуществлено. Бюрократия уже тогда была централизованной, на университетские перемены требовалось высочайшее соизволение Петербурга. С большим трудом удалось добиться в 1828 г. разрешения на открытие должности лектора (преподавателя) финского языка, но еще не профессуры.
В связи с 200-летним юбилеем Александровского университета властям было подано специальное ходатайство о профессорской кафедре, и в этом случае имелся в виду уже конкретно Элиас Лённрот, достойный ее занять. В последующие годы такая идея выдвигалась все настойчивее, друзья убеждали самого Лённрота быть готовым занять кафедру и не принимать иных решений о смене врачебной профессии. Но власти отнюдь не торопились, и неопределенность создавала для Лённрота большие неудобства. В феврале 1843 г. Ф. Ю. Раббе писал ему, чтобы он все-таки не спешил с подыскиванием места священника или лицейского преподавателя, — рано или поздно университетская кафедра финского языка все равно будет создана, и, как писал Раббе, «ты имеешь на нее бесспорное право».
Дело, однако, не на шутку затягивалось, и не только из-за петербургской, но и финляндской бюрократии, которая тоже не была заинтересована в развитии финской национальной культуры. Уже на начальном этапе, когда вопрос о профессуре был поставлен на голосование в университетской консистории (ученом совете), большинство ее членов проголосовало против. Можно понять реакцию Лённрота — ведь это касалось не только его лично, но и самого дела, которому он себя посвятил. В письме от 12 мая 1843 г. он писал доктору Раббе: «Вся эта канитель с профессурой была сущей чепухой и потому позорно провалилась, как ты сообщаешь в своем письме. Уж, верно, финскому языку и в самом деле лучше остаться пока в положении гонимого, вызывающего сочувствие и жалость, чем быть вдруг возвышенным в свои права и утвержденным в своем достоинстве. Ведь в этом мире со многим происходило точно так же — даже с христианством. Лишения по меньшей мере закаляют и питают надежду, а богатство развращает и вселяет страх».
Когда Лённроту был предоставлен в 1844 г. пятилетний отпуск для экспедиционных и составительско-филологических работ, вновь возник вопрос о том, что настоящее его место было в университете. Об этом писал Снельман в «Сайме» (его самого тоже упорно не допускали к университетской кафедре). Такого же мнения был Кастрен. Между прочим, по мере его научно-исследовательских успехов он тоже стал считаться одним из возможных кандидатов на профессорскую должность. Но сам Кастрен имел в виду прежде всего Лённрота, когда писал доктору Раббе в 1847 г.: «Будет вечным позором для Финляндии, если этому человеку так и позволят закончить свою жизнь отставным окружным врачом. Лично я скорее предпочту быть нищим торпарем, чем соглашусь занять кафедру, по праву принадлежащую Лённроту».
Но с приближением европейских революций 1848 г. власти осторожничали пуще прежнего — профессорская должность по финскому языку превратилась чуть ли не в политическую проблему. Когда к графу А. Армфельту, тогдашнему статс-секретарю по финляндским делам в Петербурге, обратились летом 1848 г. с ходатайством о содействии, ответом было, что «сейчас не время» для подобных ходатайств.
Тем не менее вопрос с профессурой, как это ни парадоксально, решился довольно-таки неожиданно и при необычайных обстоятельствах. Должность профессора финского языка была санкционирована в апреле 1850 г. одновременно с введением жесточайшего цензурного устава, запрещавшего издавать на этом же языке все, кроме церковных книг. В действиях властей вроде бы не было никакой логики. Но угадывался все же хитрый расчет: как писал Лённроту Ю. А. Тёрнгрен, «горькую пилюлю» цензурного устава хотели «подсластить» профессорской вакансией. Между тем сама атмосфера в университете с устрожением политического надзора представлялась Тёрнгрену крайне нездоровой, он даже советовал в письме Лённроту не соглашаться с предложением о профессуре, поскольку в новой должности он мог стать лицом поднадзорным.
Для скептицизма политического характера были основания. Уже при учреждении профессорской вакансии по финскому языку не обошлось без явной дискриминации: если остальные профессора пользовались все-таки известной академической независимостью (по университетскому уставу их можно было увольнять только после открытого судебного разбирательства), то новый профессор подобной привилегии не имел, его могли уволить в приказном порядке. Кроме того, и жалования ему полагалось вдвое меньше, чем другим профессорам.
Но вакансию все же нужно было заполнять — нельзя было упускать шанс, который мог и не повториться. Достойных кандидатов, как уже говорилось, было двое: Лённрот и Кастрен. К ним и обратились с письмами друзья. К тому времени, однако, в жизни Лённрота произошла перемена, побудившая его настоять на том, чтобы кафедру финского языка занял Кастрен.
В июле 1849 г. Лённрот женился, началась его семейная жизнь, которую он был намерен вести в Каяни. Тогда же закончился его пятилетний служебный отпуск, и он вновь приступил к исполнению обязанностей окружного врача. Лённрот построил в Каяни для семьи приличный дом, — вернее, строительством и планировкой дома занималась больше его молодая и энергичная жена, приготовившая и чертежи. Если раньше друзья слегка шутили над Лённротом, считая его безнадежным холостяком, которому жену заменяет беспрестанная работа, то теперь Лённрот всерьез взялся за устройство семейного гнезда. Были заботы и радости, вскоре родились первые дети. В Каяни Лённрот намерен был пока обосноваться прочно, он устал от неопределенности своего положения. К тому же он еще до этого успел дать согласие быть редактором оулуской финноязычной газеты («Оулун вийккосаномат»), и это тоже привязывало его к Каяни.
Кроме этих привязок, и сама профессура давала повод для размышлений. Лённрот хорошо знал Кастрена и как человека, и как многообещающего лингвиста-исследователя. Лённрот давал себе отчет в том, что должность профессора финского языка ко многому обязывала именно в научно-филологическом отношении. И он готов был признать, что Кастрен в этом смысле более соответствовал задаче. Несмотря на свою молодость, Кастрен (он был на одиннадцать лет моложе Лённрота) имел преимущество, ибо являлся лингвистом по своей основной специальности. Лённрот много занимался словарной работой, собирал языковые материалы, но профессиональным лингвистом в широком смысле слова он все-таки не мог себя считать. В условиях провинциального Каяни невозможно было сколько-нибудь основательно и систематически следить за развитием современного языкознания, особенно в теоретическом плане, — для этого не было ни времени, ни фундаментальной библиотеки. Поэтому не следует удивляться тому, что некоторые суждения Лённрота о языке (в частности, предлагавшиеся им этимологии) казались последующим исследователям «доморощенными» и «дилетантскими», как об этом упоминает А. Анттила. Надо учитывать и то, что Лённроту, приближавшемуся по возрасту к пятидесяти годам, не очень с руки было начинать все чуть ли не с начала и углубляться в лингвистическую теорию. Словом, Кастрена он считал более подходящей кандидатурой в профессора.
Но и у Кастрена были свои сомнения. Он был специалистом по сравнительному изучению финно-угорских языков и ряда языков Сибири, однако привык писать и говорить больше по-шведски, а практическим финским языком владел для преподавательских целей недостаточно. Лённрот успокаивал его тем, что при его способностях он быстро освоится с практическим языком. Кастрен же считал, что Лённрот как природный финн и языковед-практик был бы более полезным наставником студентов, из которых готовили в основном священников и государственных чиновников, — именно для них и нужен был практический финский язык.
В должность профессора финского языка Кастрен вступил в начале 1851 г., и в истории финно-угорской филологии это была важная веха. Не случайно именем Кастрена и сейчас называется филологический факультет Хельсинкского университета. К сожалению, Кастрен тогда был уже очень болен, силы его были на исходе. 7 мая 1852 г. в возрасте тридцати девяти лет Кастрен умер. Его научные заслуги получили мировое признание, он по праву считается одним из основателей финно-угорского языкознания.
После кончины Кастрена надежды вновь были прикованы к Лённроту. Друзья настойчиво убеждали его, опасаясь, что если не найдется достойной кандидатуры, должность профессора финского языка вообще может быть упразднена. С письмом к Лённроту обратился ректор университета, а также саво-карельское студенческое землячество, после чего медлить было уже нельзя.
Для Лённрота началась хлопотная пора вступления в профессорскую должность с выполнением разного рода формальностей. В свое время он не прошел докторских промоций по философскому факультету, и теперь ему предстояла срочная подготовка докторской диссертации и ее публичная защита. Все это Лённрот должен был проделать наряду со своими врачебными обязанностями в Каяни. Темой диссертации он избрал вепсский язык, использовав собранные полевые материалы прежних экспедиций. Защита состоялась 14 мая 1853 г.; с некоторыми проволочками Лённрот был утвержден в должности профессора. В январе 1854 г., в сильные морозы, Лённрот с семьей переехал из Каяни в Хельсинки.
По тогдашней традиции при вступлении в должность профессору полагалось выступить с первой показательной публичной лекцией, которую Лённрот прочитал 14 февраля 1854 г. (еще на шведском языке). Она касалась родственных связей между финским, эстонским и саамским языками. Лекция была опубликована в газете «Литературблад» и дала повод для разных суждений. Пристрастных специалистов-языковедов она не поразила теоретической новизной, но зато студенты бурно приветствовали само восхождение Лённрота на университетскую кафедру, причем именно на кафедру финского языка. В тех условиях этот энтузиазм был вполне понятен и объясним. Для студентов это была победа, доставшаяся в результате немалых усилий. Еще в 1847 г. Лённрота выдвинули в почетные доктора Хельсинкского университета, но тогда нашлись противники, в числе которых был даже Ю. Г. Линеен, и предложение не прошло. Как это нередко бывает, Лённрот должен был вначале получить признание за рубежом, чтобы наиболее упрямые головы признали его на родине. Кстати, еще в апреле 1850 г. Лённрот был избран членом Берлинской академии наук, затем и других зарубежных академий.
А для юных и независимых студентов вступление Лённрота в профессорскую должность стало настоящим праздником. После упомянутой публичной лекции, во второй половине дня, более двухсот студентов вместе с академическим хором направились к жилищу Лённрота, чтобы тепло поздравить его восторженными криками и песнопениями, в том числе исполнением патриотического гимна «Наш край» на слова Рунеберга. Лённрота они застали возле дома на лыжах — от этой давней привычки он не мог отказаться и в Хельсинки. Лённрот выслушал приветствия, поблагодарил студентов и продолжил прогулку, хотя студенты ожидали, что он присоединится к ним для дальнейших празднеств в здании университета. В один из последующих дней Лённроту все же не удалось избежать торжественного приема, на котором, кроме него, чествовали еще и Ф. Сигнеуса, одновременно с ним утвержденного профессором эстетики. Оба виновника торжества были по традиции усажены в «золотые кресла», и их с приветственными возгласами обнесли вокруг зала.
В Хельсинки в жизни Лённрота многое изменилось. Профессорская должность предполагала участие в разного рода культурных организациях и событиях, она требовала публичных выступлений. И официальная публичная жизнь началась для Лённрота весьма скоро, он должен был привыкнуть к ней. В бытность в Каяни он этого не знал, был менее заметной фигурой, занимался своими рукописями и книгами.
В Хельсинки он читал лекции студентам, был членом университетской консистории, выступал на защитах диссертаций, наносил визиты начальству по всем правилам этикета, одетый в профессорский мундир. Бывший воспитанник Лённрота, К. В. Тёрнгрен, встретившись с ним в Хельсинки, писал своему приемному отцу: «Забавный вид был у Лённрота в мундире с золотыми позументами; похоже, проканцлеру Норденстаму, которому он нанес визит, еще никогда не доводилось видеть посетителя, менее подходящего для вицмундира».
Но дело было не только в визитах. В своем новом положении Лённрот оказывался в центре культурно-политической жизни, должен был активнее участвовать в ней, иметь на многие вопросы свою точку зрения и публично ее высказывать. Почти сразу же его избрали председателем Общества финской литературы и Академического студенческого объединения, в 1855 г. он возглавил финское научное общество (предтечу Академии наук Финляндии). В 1859 г. Лённрот был избран почетным членом Венгерской академии наук и американского этнографического общества.
Авторитет Лённрота возрастал, к его мнению прислушивались. В Финляндии усиливались споры по национально-культурным вопросам, обострялась борьба за финские школы, а вместе с тем намечалось расслоение в студенческой среде на национальной почве, поскольку в университете учились и финны, и шведы. На все это Лённрот должен был как-то реагировать, что отразилось в его публичных выступлениях.
Поначалу Лённрот читал лекции на шведском языке. Это объяснялось двумя причинами. Во-первых, даже студенты-финны не были вполне подготовлены для восприятия лекций на финском языке. И, во-вторых, сам литературный финский язык еще не во всем соответствовал академическому уровню преподавания.
Свою первую лекцию на финском языке Лённрот прочитал 19 сентября 1856 г., и это была по-своему историческая веха: впервые за двести с лишним лет существования университета финский язык прозвучал с университетской кафедры. Это обстоятельство Лённрот отметил сразу же в начале лекции, касавшейся финской мифологии, в основном заклинаний.
«С этой кафедры, — сказал Лённрот, — прежде не раздавалась финская речь, но поскольку нынешние университетские правила не запрещают этого и поскольку редко кому из вас финский язык столь непривычен, чтобы совсем не понимать его, то я решил читать эти лекции в каждый четверг по-фински. Надеюсь, что и те, кто вначале не все будет понимать, извлекут, однако, больше пользы, чем из лекций на шведском языке, потому что прежде непонятное скоро будет для них понятным, и само привыкание к языку явится дополнительной наградой».
Это был совет терпеливого наставника — запас терпения на той стадии развития финской литературы был особенно необходим.
Другим памятным университетским событием тех лет была первая защита докторской диссертации на финском языке. Диссертация Р. Полена называлась «Введение в историю финской литературы». Защита состоялась 1 мая 1858 г., для чего требовалось специальное разрешение (как и для защиты осенью того же года диссертации Ю. Коскинена по финской истории). Это было уже некоторое послабление цензурного устава 1850 г., а в дальнейшем он вообще утратил силу в связи с началом либеральных реформ 1860-х гг.
В диссертации Полена обозревалась вообще финская книжность, ее история и современное состояние, развитие финского языка и его правовое положение. Язык самой диссертации и сам факт ее появления были нагляднейшими показателями всего этого. Последующими исследователями подсчитано, что из всех предложенных на семидесяти девяти страницах диссертации Полена новых слов до полутора десятков вошло в современный литературный финский язык, и уже это признано немалым достижением. Полена по праву включают в число пионеров-творцов нового литературного языка. В его работе были не только сетования на неразвитость языка, но и признаки его реального развития. Эпиграфом к диссертации автор недаром взял слова шведского литературоведа П. Визельгрена: «Если мы сами будем пренебрегать нашим языком, нами будет пренебрегать Европа».
Как профессор, Лённрот был руководителем диссертации Полена и выступил на защите с речью, в которой кратко очертил исторический путь и современное состояние финской литературы, подчеркнув трагическую сторону ее чрезвычайно замедленного развития. За триста лет на финском языке, по словам Лённрота, вышло не больше книг, чем во Франции, Германии или Англии выходит за один год. Но Лённрот напоминал об этом не для того, чтобы впадать в отчаяние и самоуничижение. Напротив, необходимо было осознать, что от скорейшего развития литературы «зависит не только культурный уровень финской нации, но и само ее существование и благополучие».
Лённрот хорошо понимал, что без школьного образования на финском языке нечего и думать о его внедрении во все сферы национальной жизни. Нужно было одновременно развивать язык и расширять сферу его функционирования. По словам Лённрота, даже пасторы, читавшие по-фински проповеди, тем не менее не готовы были вести на этом языке протоколы приходских собраний. Лённрот позволил себе в этом выступлении весьма жесткие выражения, не совсем обычные для него, — настолько наболело у него на душе. Привыкшее к шведскому языку чиновничество насмехалось над самой мыслью о языковом равноправии, считая финский языком необразованных простолюдинов. «Но похоже, — продолжал Лённрот, — что их усмешки и издевки, наскоки и поношения, их явные и тайные козни и преграды, — словом, все их противодействия уже недолго будут иметь силу. Вопреки их воле, финский язык все равно утвердится в Финляндии. Если с этим не хотят согласиться по-доброму, пусть это произойдет без их согласия. А противники из числа фанатиков могут отправляться туда, где их родина. Ведь когда речь идет о финском языке, имеется в виду не мнение отдельных частных лиц и даже не отдельных волостей, — это касается всего финского народа, всей нации, самого ее существования и будущего развития, которое попросту немыслимо без того, чтобы финский язык в Финляндии стал преобладающим. И, судя по некоторым признакам, ждать этого осталось уже недолго».
Поскольку защита диссертации Р. Полена состоялась 1 мая, — а в Финляндии, в том числе среди студенчества, это традиционный праздник весны, — Лённрот посчитал такое совпадение символическим: весна приносила с собой надежду, что худшая пора для финского языка была уже позади; при всех предстоящих еще трудностях можно было сказать, что финский язык и национальная литература вступили на путь современного развития.
Пусть вышеприведенный эпизод с диссертацией Р. Полена не покажется читателю малозначащей деталью — в истории каждого народа подобные вехи памятны и важны. Можно себе представить, например, каким бы это было памятным событием, если бы на карельском и вепсском языке были защищены первые докторские диссертации по этим литературам, — дай-то Бог такому осуществиться! И можно вспомнить, сколь обидным еще в недавние времена был для эстонцев обязательный порядок, когда они должны были высылать свои диссертации на русском языке в контрольные московские инстанции.
Придерживаясь принципа равноправия языков. Лённрот не требовал для финского языка какого-то исключительного положения и вытеснения шведского. Всякая односторонность, с его точки зрения, была ущербной и гибельной. В речи на годичном собрании Общества финской литературы в 1861 г. Лённрот подчеркнул это особо, считая, что и сама финская литература не должна была впредь развиваться односторонне, только в церковно-религиозном направлении. Литература и язык должны были отражать совокупную жизнь всего общества в целом, всех его слоев и сословий — только тогда литература и язык становились общенациональным достоянием.
В современном мире, по убеждению Лённрота, народы не могли развиваться в этнической изоляции. Поэтому он не видел особой беды в том, что в Финляндии наряду с финским было и шведское население. Вот как сказал об этом Лённрот в своем ответном слове, когда студенты нюландского землячества чествовали его в связи с шестидесятилетием 9 апреля 1862 г.: «Часто утверждается, будто два элемента — финский и шведский — составляют несчастье нашей страны. Но я никогда не мог согласиться с подобным мнением. Напротив, я считаю это нашим счастьем. История свидетельствует о том, что народ, возникший в результате слияния различных национальных элементов, становится наиболее сильным и интеллектуально развитым; в древности это были греки, а в наше время — англичане».
Следует иметь в виду, что на рубеже 50—60-х гг. XIX в. Финляндия пребывала в ожидании политических и общественно-экономических реформ. Обострялась борьба за соблюдение и расширение ее автономии и конституционных прав. Возглавили ее Ю. В. Снельман и так называемые «младофенноманы» с их лидером Ю. Коскиненом, а в шведском лагере образовалось свое либеральное крыло вокруг газеты «Дагбладет». Симптоматичным было уже то, что в 1856 г. Снельман занял наконец университетскую кафедру, затем вошел в сенат, стал ведать финансами страны и проявил себя практическим проводником реформ. Все это было связано с тем, что в 1863 г., после более чем полувекового перерыва, был созван наконец-таки финляндский сейм — представительное собрание всех сословий страны, включая крестьянство. Это ускорило процесс образования политических партий, осложнились национальные взаимоотношения, дискуссионной стала, в частности, проблема патриотизма. Лённрот не мог миновать этих проблем, он внес свою лепту в их обсуждение, придерживаясь идеи гуманизма и национального равноправия.
В феврале 1862 г. Лённрот выступил перед так называемой «январской комиссией», созданной для подготовки созыва сейма. Лённрот остановился на том, как понимать любовь к отечеству, особенно с точки зрения развития культуры и нравственного воспитания нации. Лённрот отвергал чисто прагматический и своекорыстный подход: мол, родина там, где лучше живется. Лённрот напомнил, что принцип этот весьма-таки древен, — еще у римлян существовало соответствующее изречение. Но Лённрот не считал, что подобный утилитарный подход украшает человека, — напротив, это ниже человеческого достоинства и ущербно для нравственного здоровья нации. Корни человеческой привязанности к родной земле он находил в народной культуре и приводил в подтверждение финские пословицы: «Дом для собаки там, где ей позволили трижды переночевать»; «Лучше испить воды из лаптя на родной земле, чем пить пиво на чужбине».
По убеждению Лённрота, отечество — не пустое слово. Подлинное чувство любви к отечеству объединяет людей, духовно возвышает их и укрепляет нравственно. «Удивительная эта привязанность, — говорил Лённрот в своем выступлении, — она скрепляет человека с родиной, независимо оттого, какая она, эта родина, — великая или малая, богатая или бедная, в теплых ли краях расположена она или в холодных. Наша Суоми, наше дорогое отечество, не отличается ни обширностью пределов, ни богатством, ни теплым климатом. Но разве хоть кто-нибудь из нас захотел бы сменить родную страну на другую — пусть даже великую, богатую и теплую? А если по своей близорукости кто-то и совершил бы такое, он скоро пожалел бы об этом. Ведь родина — при всей ее скромности, бедности и холоде — у нас единственная, другой нам не купить ни за какое золото на свете».
Величие страны, по словам Лённрота, измеряется не территорией, а внутренним достоинством ее народа. И к счастью, добавлял Лённрот, внутреннее достоинство народа зависит прежде всего от самого народа, не столько от внешних обстоятельств.
Нравственный пафос Лённрота был особенно понятен и уместен в ту эпоху, когда финская нация только формировалась и когда нужно было во что бы то ни стало воспитать и сохранить духовную независимость в условиях внешнеполитической зависимости страны. Потом из Финляндии будут периодически волны эмиграции, но духовное воспитание народа сыграло свою роль, особенно если иметь в виду, что речь шла о народе, который должен был доказать свое право на историческое бытие.
К 1860-м гг., когда выступал с публичными речами Лённрот, финское национальное движение прошло уже определенный путь, который можно было обозреть исторически и благодаря которому более или менее четкой представлялась и дальнейшая перспектива развития. Именно это характерно для выступления Лённрота по случаю открытия памятника X. Г. Портану в Турку 9 сентября 1864 г. Само культурное событие позволяло развить исторический взгляд на национальное движение — от начала культурно-просветительской деятельности Портана прошло к тому времени уже целое столетие.
В своей речи Лённрот исходил из того, что для любой нации именно самобытное культурное развитие — наиболее мощный рычаг, позволяющий ей выжить. Чем культурнее нация, тем она исторически прочнее и устойчивее. Менее прочными и преходящими могут оказаться как раз государственно-политические образования, а не вполне развитые нации как культурно-языковые целостности.
Лённрот соглашался с мыслью о том, что в последний период шведского господства в Финляндии ассимиляционные процессы зашли так далеко и культурная отсталость имела столь пагубные последствия, что финская нация была уже на краю гибели. Великой заслугой Портана, по словам Лённрота, было то, что он осознал это и именно в культурном развитии увидел путь к спасению. По мнению Лённрота, уже Портан осознал это как историческую необходимость и неизбежность — его культурно-просветительская деятельность была не его личной причудой, а предвестием и предчувствием скорого национального пробуждения. Этим же определялась мера его нравственного благородства, ибо истинно благородные люди, по словам Лённрота, всегда на стороне угнетенных и обездоленных.
Автономное положение Финляндии в составе России, как считал Лённрот, способствовало национальному пробуждению финского народа. И в том, что на Боргоском сейме в 1809 г. Александр I счел необходимым торжественно заверить, что отныне народ Финляндии возвышался в число наций, Лённрот усматривал и некоторую заслугу Портана, давшего толчок развитию национальной культуры. Лённрот был также убежден, что уже Портан (умерший в 1804 г.) предчувствовал под конец жизни скорую перемену в судьбе Финляндии, ее отрыв от Швеции и присоединение к России. Лённрот ссылался при этом на устные воспоминания младшего современника Портана (не называя его по имени), которому Портан в беседе говорил о своих предчувствиях и предположениях. Видимо, это не лишено основания, учитывая, что Портан как историк и филолог питал особый интерес к России. В Туркуском университете он прочитал в свое время курс лекций под названием «Основные черты русской истории», который считается нашими специалистами первым университетским курсом истории России в европейских странах. В предисловии к русскому переводу этого лекционного курса, вышедшему в 1982 г. в Москве, Г. А. Некрасов пишет: «Обычно за рубежом в XVIII веке отдельные факты из истории России рассматривались в виде вкраплений в курсах по всеобщей истории. Заслугой X. Г. Портана является вычленение истории России из истории Европы и превращение ее в самостоятельную специальную область наблюдения и изучения. Будучи ученым-иностранцем, он сумел глубоко проникнуть в проблематику истории России, дать ее систематическое изложение и поставить ряд важных проблем периодизации».
Добавим, что Портан интересовался также русским фольклором в своих сопоставительных исследованиях. В частности, ему был известен французский перевод поэмы M. М. Хераскова «Чесменский бой» с предисловием автора, которое расценивается специалистами как наиболее замечательный для своего времени исторический обзор русской поэзии, включая поэзию устную. Как отмечает в «Истории русской фольклористики» М. К. Азадовский, предисловие Хераскова было первым в истории русской литературы опытом включения устной народной поэзии в общее литературное развитие.
Речь на открытии памятника Портану явилась последним публичным выступлением Лённрота. Еще раньше подошла к концу его собственная профессорская карьера. В мае 1862 г. Лённрот вышел на пенсию, продолжая, однако, заниматься словарной работой.
К этому времени выросло уже новое поколение филологов-финнистов. На профессорской должности Лённрота сменил А. Алквист, языковед и собиратель фольклора, поэт и литературный критик, человек во многом иного склада, чем его предшественник. Если Лённрот отличался мягкостью характера и терпимостью по отношению к оппонентам, то Алквист был весьма резок и категоричен в своих суждениях, в том числе по литературе. При ряде своих заслуг в развитии литературного языка Алквист в то же время придерживался крайне жесткой нормативности в своих оценках и стал печально памятен полным неприятием творчества Киви, обнаружив непонимание его новаторской роли. Достаточно сказать, что роман Киви «Семеро братьев» Алквист осудил как «клевету на финский народ»; неприемлемым для него был и стиль Киви, в действительности означавший решительный шаг в развитии финской художественной прозы — также с точки зрения литературного языка.
Лённрот был более гибок и чуток к движению времени, к тем переменам, которые оно приносило с собой. Своей фольклорно-публикаторской, журнально-газетной, словарной и преподавательской работой он сыграл огромную роль в развитии литературного финского языка, причем в самый трудный и ответственный период его становления. Но, получив необходимый толчок, язык затем развивался довольно быстро, и в 1860—70-е гг. Лённрот уже сознавал, что он в чем-то не поспевает за новейшим языковым развитием. У Лённрота хватило интуиции, здравого смысла и самокритичности, чтобы воспринять это спокойно, в отличие от А. Алквиста. Между прочим, одним из студентов Лённрота был как раз Киви, и именно Киви, получивший мощные импульсы от «Калевалы» и народной культуры в целом, явился обновителем литературного стиля.
В апреле 1862 г. отмечалось шестидесятилетие Лённрота, празднества были и в Хельсинки, и в Турку. Жители Турку собрали сумму денег для Лённрота, которые он передал как раз на сооружение памятника Портану. Вслед за тем, в мае 1862 г., Лённрот оставил должность профессора и вскоре покинул Хельсинки, больше ценя сельскую жизнь.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САММАТТИ
К городской жизни Лённрот так и не привык и не любил ее, особенно на склоне лет.
Прежний Каяни запомнился ему еще полудеревней, где по улицам бродил скот. А. Алквист, как-то посетив город, жаловался на то, что даже в доме по главной улице ему трудно было уснуть ночью из-за блеяния овец.
Жизнь в Хельсинки тяготила Лённрота еще и потому, что там он был вроде бы официальным лицом у всех на виду, а это было ему не по душе. Перейдя на пенсию, он постарался убраться из Хельсинки. Еще будучи профессором, он снимал в родной волости Самматти дом под летнюю дачу, а перед уходом на пенсию купил крестьянскую усадьбу (с названием Нику) всего лишь в километре от домика, где он родился. Сил у него было еще много, он намеревался вести настоящее крестьянское хозяйство и одновременно заниматься наукой. Строения купленной усадьбы были обновлены, к дому пристроили второй этаж, всего получилось целых пятнадцать комнат, но и обитателей было много. У Лённрота было четверо детей, в доме жили нуждавшиеся в приюте родственники и осиротевшие дети его друзей, была домашняя учительница, а кроме того, были работники и работницы вместе с управляющим. Две комнаты служили рабочим кабинетом Лённрота, где он занимался в основном словарной работой — второй том фундаментального финско-шведского словаря еще только составлялся, и помощников теперь у Лённрота не было.
Усадьба любовно благоустраивалась, вокруг дома развели фруктовый сад, за которым ухаживала жена и дочери Лённрота. Вообще следует сказать, что хозяйством ведала больше его энергичная и практичная жена, сам он по своей деликатности не умел отдавать распоряжения работникам и нес в основном финансовую ответственность. Жена относилась к нему не только с уважением, но и почитанием, в разговорах с домашними называла мужа не иначе как профессором — его известность впечатляла и ее. Подчас она обращалась к нему за хозяйственными советами, но он обычно отшучивался и на вопрос, как лучше садить яблони, отвечал, что ему известно только одно: их не следует закапывать в землю верхушкой.
Можно сказать, это была счастливая пора в жизни Лённрота. Он обладал независимостью и свободой, сохранил здоровье и силы, зимой много ходил на лыжах, летом плавал. У него была молодая семья, односельчане уважали и гордились им, он умел поддерживать с ними простые человеческие отношения, охотно откликался на их просьбы.
Но счастье бывает непрочным, и в семье Лённрота оно длилось недолго. Прежде он встречался с болезнями и смертью в районах эпидемий, теперь опустошительная болезнь пришла в его дом, и бессилие против нее было тем тягостней, что он был врач.
Одной из страшных болезней, с которыми тогдашняя медицина еще не умела справляться, был туберкулез легких, проще говоря, чахотка. У жены Лённрота она обнаружилась в 1865 г., когда было уже слишком поздно, и после трехлетних мучений жена умерла. До этого, еще в Каяни, Лённрот потерял двухлетнего сына, скончавшегося от воспаления мозга, и теперь это был новый удар. По местным народным обычаям, Лённрот сам отвез гроб жены на кладбище — в его натуре было нести горе внутри себя.
Лённрот остался вдовцом с четырьмя малолетними дочерьми на руках, нуждавшимися в воспитании и образовании. Им тоже была уготовлена трудная судьба, трое из них умерли совсем юными. С возрастом Лённрот стал испытывать все большую тягу к уединению и покою, он хотел забыться в работе, горе не сломило его, разве только укрепило его внутреннее самообладание.
Усадьба Нику, первоначально так радовавшая Лённрота, находилась у проезжей дороги, и к нему довольно часто наведывались знакомые. В доме их встречали гостеприимно, но бывало и так, что хозяин уставал от бесед, ему хотелось отдать время работе либо побыть одному. В 1869 г. Лённрот приобрел в той же волости Самматти другую, более отдаленную и укромную усадьбу под названием Ламми. Туда и настоящей дороги еще не было, и он предпочитал жить там. Только ради образования дочерей он периодически снимал квартиру в Хельсинки, а когда трое из них одна за другой умерли, он с четвертой дочерью Идой жил в Ламми. Выдержка и самообладание Лённрота поражали его знакомых. Один из них рассказал потом о следующей встрече с Лённротом в его уединенной усадьбе. Гость пожаловал с приятельской беседой, которая протекала как обычно, даже с шутками, он распрощался с хозяином, и только потом узнал, что у Лённрота на днях умерла дочь, о чем тот в беседе с гостем не обмолвился ни словом. Окружавшие удивлялись этому свойству натуры Лённрота, но для него это, видимо, было способом внутренней самозащиты от чрезмерного горя — оно было его отцовским горем, и с ним мог совладать только он сам.
И опять-таки утешение Лённрот находил в работе. В 1860—70-е гг., наряду с подготовкой финско-шведского словаря, много внимания он уделял работе над новым изданием духовных песнопений. Лённрот являлся членом специально созданного для этой цели комитета, куда входили главным образом церковные деятели, но основная практическая работа легла на Лённрота (он возглавлял финскую группу в комитете, готовившем также шведское издание духовных песен). С развитием литературного финского языка тексты духовных песнопений нуждались в обновлении, необходимо было устранить малопонятные архаизмы, дать новую редакцию текстов, а некоторые из них вообще изъять и заменить новыми. Была и чисто поэтическая сторона в подготовке текстов, возникали вопросы стиля. Некоторые предлагали привлечь к сочинению текстов духовных песен крестьянских поэтов, придерживавшихся традиционной Калевальской метрики, но Лённрот не считал это возможным, усматривая в таком сочетании некую несовместимость содержания и стиля. В текстах он стремился к простоте и естественности выражения религиозного чувства — без тех крайностей, которые улавливались им в пиетистских песнопениях. Лённрот по ходу дела увлекся этой работой, она представлялась ему важной, поскольку духовные песни — именно в его восприятии — тоже были частью народной культуры, с ними верующие соприкасались постоянно. Лённрот не жалел сил и многократно публиковал для пробы свои редакции текстов, хотя занятие это было весьма хлопотным — ведь речь шла о пересмотре и изменении канонических церковных текстов под бдительным оком самих церковников, и критиков у Лённрота в этом случае было с избытком. Работа затягивалась, были недовольные, но он по своему обыкновению воспринимал все довольно спокойно и продолжал делать дело. Вклад Лённрота в обновленное финское издание духовных песнопений признан весьма существенным, и он же сочинил ряд шведских текстов, вошедших в соответствующее шведское издание. В последнем случае Лённроту довелось состязаться с Рунебергом и Топелиусом, признанными поэтами, привлеченными для подготовки шведского издания.
Хотя Лённрот дорожил тишиной и уединением, но бремя славы и публичная жизнь и теперь не оставляли его в покое. Отмечались юбилеи и устраивались торжества, ему присваивались почетные титулы, академические звания и ордена. Он был, например, удостоен в 1871 г. даже прусского рыцарского ордена (весьма редкой в ту пору награды, учрежденной еще Фридрихом Великим). А до этого, в 1865 г., Лённрота наградили шведским рыцарским орденом. Чуть ли не каждое финское научно-культурное общество и ряд зарубежных обществ и академий считали своим долгом избрать его своим почетным членом. Лённроту оставалось только смущенно разводить руками, а когда с него стали писать портреты, убеждая, что это нужно для потомков, Лённрот после тщетных отнекиваний смирился со словами: «Ну что ж, когда ничего больше делать уже не можешь, остаётся только сидеть для модели».
В связи с устраивавшимися в честь Лённрота торжествами происходили довольно забавные случаи. Биографы Лённрота рассказывают, например, о том, как в начале июля 1881 г. Общество финской литературы собиралось отметить свое пятидесятилетие. Лённрот как старейший основатель Общества и некогда его председатель должен был стать центральной фигурой празднества, и его появления ожидали в Хельсинки. Но семидесятидевятилетний Лённрот предпочел исчезнуть даже из Самматти, чтобы стать недосягаемым. Вместе с дочерью Идой они задумали поездку в северную Финляндию и сначала добрались на поезде до Выборга, оттуда проплыли по Сайменскому каналу до Лаппеенранта и дальше намеревались плыть до Куопио. Выяснилось, однако, что до Куопио им предстояло ехать на специально прибывшем для этого пароходе «Элиас Лённрот», — название было присвоено судну за четыре года до этого, в честь 75-летия Лённрота. (Между прочим, когда к нему обратились тогда за согласием, он отреагировал в тот раз по поводу судна: «Пусть оно и через 75 лет сохранит такие же ходовые качества, как я теперь».) На сей раз Лённрота с дочерью приехал встречать из Куопио сам владелец судна, им была предоставлена лучшая каюта, а в Куопио на пристани их ожидала людская толпа с цветами, флагами, приветственными речами. Приют гостям предложил сам епископ в своем доме, но Лённрот все же остановился у знакомого местного врача. Дальше Лённрот с дочерью добрались до Каяни и, не задерживаясь в городе и стараясь ни с кем не встречаться, направились в укромный сельский пасторат, где священником был племянник Лённрота— это и был конечный пункт их тайного бегства на время хельсинкских празднеств. Лённрот провел в пасторате три мирных недели в беседах и прогулках, ловил на озере рыбу. Однако на обратном пути его уже встречала в Каяни праздничная толпа во главе с отцами города, вновь были речи, на которые должен был как-то отвечать и Лённрот. Похоже, именно это чрезмерное, как ему казалось, внимание к нему и громкое возвеличивание его заслуг побуждали, а лучше сказать, подстрекали Лённрота реагировать прямо противоположным, но весьма характерным для него образом: он старался явно преуменьшить свою роль и значение сделанного им. В ответном слове на приветственные речи в Каяни он даже утверждал, что «поскольку я, наверное, был не очень хорошим врачом и вообще не слишком был загружен врачебными делами, то ради удовольствия мне пришло в голову записывать песни от рунопевцев — подобное было под силу каждому».
Быть может, в ответном слове на хвалебные речи скромность была уместна — ведь не очень впечатляет, когда иная чествуемая знаменитость, поощряемая похвалами, сама начинает хвалить себя и вырастать в собственных глазах. Лённроту это было противопоказано, на похвалы своей исключительности он отвечал, что он — «как все». И чтобы больше не слушать похвал, из Каяни он решил добираться обратно домой уже другим путем — на пароходе через Оулу, Ваасу и Турку, но повсюду приветствия повторялись в том же духе.
Исторически это можно понять: формирующаяся нация чествовала своего заслуженного сына, и уже одно сознание того, что в развитии национальной культуры были достигнуты первые крупные успехи, доставляло радость, вызывало восторг.
Неким спасением от самообольщения для Лённрота было его нестареющее чувство юмора. В апреле 1882 г. довольно шумно — и во многих местах — отмечалось его восьмидесятилетие. На этот раз, как он признавался сам, возраст и состояние здоровья уже не позволили ему пуститься в бега. Когда одно из торжественных чествований подошло к концу и порядком уставший юбиляр смог наконец уединиться вместе со своим знакомым профессором-теологом, впоследствии архиепископом, Г. Юханссоном, тот с участием и не без любопытства спросил Лённрота, что же он чувствует после всех приветственных речей и здравиц. И поскольку друг просил юбиляра ответить по-приятельски откровенно, без утайки, то Лённрот не хотел оставаться в долгу и, сообразуясь с духовным саном спрашивающего, рассказал в ответ историю про ватиканских кардиналов и свинопаса.
Кардиналы должны были избрать из своей среды нового папу, но никак не могли прийти к согласию и до того перессорились между собой, что решили назначить папой первого встречного на улице, которым оказался свинопас. Его обрядили в папские одежды, чтобы он возглавил ритуальное шествие. По пути встретилась жена свинопаса, возмутившаяся тем, что муж больше даже не узнавал ее. Тогда папа-свинопас ответил: «Как же я мог узнать тебя, когда я сам себя больше не узнаю». Смысл юмора ясен: Лённрот не хотел утрачивать самого себя.
Быть «как все» означало для Лённрота и то, что он привык и стремился жить максимально естественной жизнью обычных людей из своего сельского окружения. Как описывает А. Анттила по воспоминаниям современников, Лённрот вставал в четыре-пять часов утра, выпивал чашку кофе и, прежде чем сесть за письменный стол, играл немного на кантеле, напевая песню-другую, иногда псалмы. После двух часов работы следовала часовая прогулка перед завтраком, который подавали в девять часов. В двенадцать был предобеденный кофе, в три часа дня обедали, после чего Лённрот снова гулял и затем работал. Ужинали в восемь часов вечера и вскоре ложились спать. В доме ели обычную крестьянскую пищу без деликатесов и излишеств.
Здоровье Лённрота стало заметно ухудшаться к осени 1883 г., он сильно похудел и ослаб. Правда, он старался не подавать виду и вести прежний размеренный образ жизни, садился за письменный стол, одевался на прогулку, но силы изменяли, приходилось отдыхать. По свидетельству домашних, к убыванию сил Лённрот как врач и рассудительный человек относился спокойно и не хотел никого тревожить. Вечером 13 марта 1884 г. ему стало хуже, но он сказал успокаивающе домашним: «Ложитесь спать, я тоже скоро отойду на покой». Назавтра вызвали телеграфом врача, в беседе с которым Лённрот сказал: «Врачам со мной уже нечего делать, лечите лучше молодых», — и он указал на присутствовавшую при этом подругу дочери, легочную больную.
Элиас Лённрот скончался ранним утром 19 марта 1884 г. По воле покойного он был погребен на кладбище в Самматти. Похороны превратились в общенациональный траур.
Человеческое обаяние и благородство натуры Лённрота проявились и в самых последних его поступках и решениях. Помня о материальных тяготах собственной школьной и студенческой молодости, он охотно помогал в старости тем, кто хотел учиться, а часть своего состояния завещал на строительство школы в Самматти. Свою библиотеку (за исключением книг, которые были необходимы его дочери) он завещал Обществу финской литературы.
Поскольку Лённроту не хотелось собственного посмертного возвеличения, он распорядился продать как можно скорее после его кончины усадьбу в Самматти, чтобы исключить возможность основать там музей. У него был перед глазами пример: дом скончавшегося до него Рунеберга в городе Порвоо был вскоре превращен в музейный «Дом поэта» (одновременно там было устроено почетное жилище-квартира, которая по установившейся традиции предоставляется наиболее значительным финляндско-шведским поэтам-преемникам — традиция продолжается до сих пор).
Тем не менее посмертная слава Лённрота оказалась очень устойчивой, никакие общественно-идеологические девальвации ее не коснулись.
Но это слава подлинно народная, почти фольклорная и потому богатая нюансами — как бы в соответствии с многообразием фольклорных жанров, в которых есть место и юмору, и восхищению. В памяти потомков Лённрот остался во многом легендарной личностью. Как и о некоторых других знаменитостях, о нем рассказывается немало разных историй, в том числе забавных, и в них довольно трудно отличить правду от вымысла. Для примера приведем историю о женитьбе Лённрота. Легенда гласит, что уже состоялось обручение молодых, родня невесты в Каяни готовила пышный свадебный пир чуть ли не на сто персон, однако жених до самого последнего дня находился еще за сотни верст в имении Лаукко у Тёрнгренов, заканчивая свои рукописи. Разумеется, все волновались, поспеет ли он вовремя и вообще не передумает ли, решив все-таки остаться старым холостяком. Но вот наконец утром двери открыл робкого вида мужчина в довольно будничной одежде, и когда его, не сразу узнанного, спросили о цели прихода, он ответил, что вроде бы у него должна быть здесь невеста.
Очень многие истории о Лённроте построены именно на том, что он выступает в них как бы в двух ипостасях: простолюдина по внешности и образованного интеллигента по сути. Первое было на виду, второе — скрыто за обманчивой внешностью. Словом, как в народной пословице: по одежке встречают, по уму провожают.
Также биографы и исследователи Лённрота, — причем уже всерьез и многократно, — задавали «вечный вопрос» о том, кем же он был на самом деле: просто ли механическим «переписчиком» или творцом, недалеким ли простолюдином и «скромным сельским лекарем» или на редкость умным и образованным человеком? Спрашивали даже о том, к какому сословию его, собственно, следует отнести. Вспоминали о портновском ремесле предков Лённрота и его самого — в том смысле, что оно якобы сослужило ему пользу, когда он композиционно кроил и сшивал свои книги. И пусть это была лишь исследовательская метафора, но и она далека от истины.
Даже редкостное трудолюбие Лённрота можно было при желании истолковать отнюдь не в пользу его интеллекта. Если несколько огрубить ход мысли в иных суждениях, то получается следующее: отменное здоровье крестьянина помогло Лённроту без устали «бегать» за рунами, а портновское ремесло приучило к невероятной усидчивости за письменным столом.
Еще Ю. Г. Линеен, поначалу весьма восторженно встретивший «Калевалу» 1835 г., потом почему-то охладел к Лённроту (некоторые объясняли это завистью к его славе) и попросил своего семнадцатилетнего сына, занимавшегося рисованием, изобразить в карикатуре-шарже неутомимого «босоногого странника» с посохом в руке и котомкой за спиной. К рисунку сына уже сам Линеен — как профессор-античник — присовокупил латиноязычную подпись, которая в переводе гласила: «Один человек своим беганием спас наше общее дело». Со временем рисунок стал в некотором смысле историческим и запомнился многим — его воспроизводили бесчисленное количество раз в самых разных изданиях. И если первоначально в рисунке (как и в подписи) подразумевалась критическая заноза-насмешка, то впоследствии она притупилась и выветрилась, рисунок воспринимается скорее с добродушной улыбкой — в духе фольклорной легенды о великом страннике.
Потомки хотят видеть в Лённроте именно человека, а не икону. Народная память любит своих кумиров веселыми, улыбающимися, жизнерадостными. Она прощает им многое — кроме раболепия и чинопочитания, а этим Лённрот не страдал.
В разное время появлявшиеся статьи с характерными заглавиями типа «Проблема Лённрота» или «Загадка Лённрота» помогали в конечном итоге уразуметь, согласовать и соединить воедино разноликие ипостаси реальной исторической личности, соотнести легенду с фактами, отделить в речах и поступках самого Лённрота шутку от вполне серьезного.
Касаясь этих долгих усилий критики, Т. Королайнен и Р. Тулусто, финские авторы относительно недавней новой краткой биографии Лённрота (1985), высказали простую и верную мысль: многое в личности Лённрота, в его привычках и поведении, в нравственном облике и отношении к людям объясняется тем, что он был интеллигентом в первом поколении, выходцем из народной среды, черты которой в нем проявлялись в очень индивидуальной и своеобразной форме.
К этому можно еще добавить, что в первом поколении по существу была тогда вся очень молодая и очень немногочисленная еще финская (финноязычная) интеллигенция. В эпоху Лённрота она делала только первые шаги, закладывала первые основы современной национальной культуры, и в этом было своеобразие эпохи.
Элиас Лённрот достойно представлял свое поколение. Он был наиболее выдающимся посредником между тысячелетней устной народно-поэтической традицией и современной книжной культурой.
И нужно было непременно обладать тонким культурно-историческим чутьем, большими знаниями, неиссякаемой любовью к народу и сокровищам народной поэзии, чтобы в трудных условиях его времени совершить то, что воплотилось для потомков в его классических книгах.




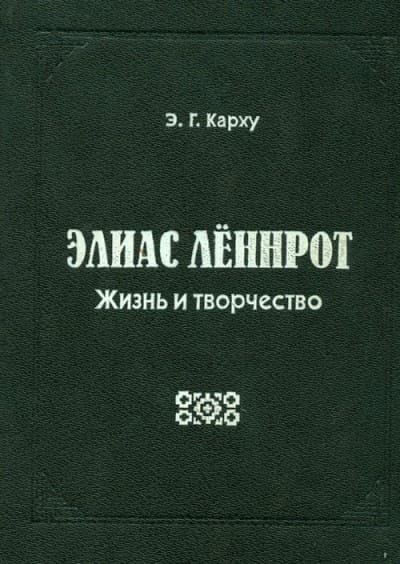








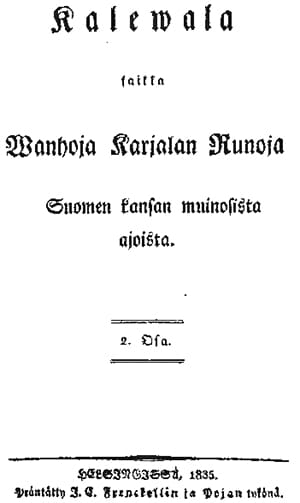
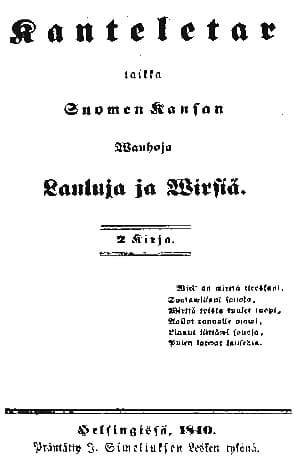







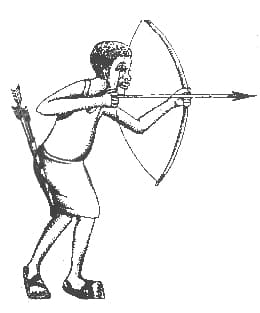




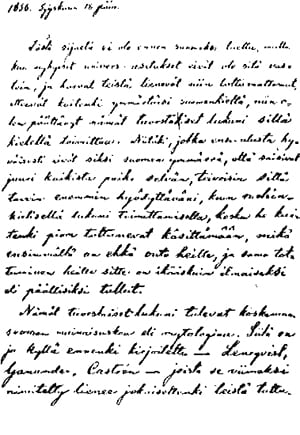




Свежие комментарии